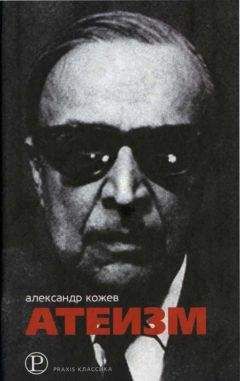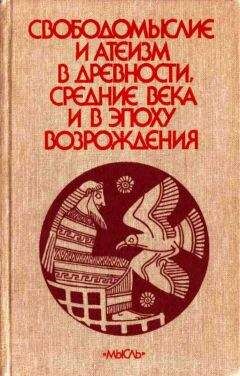Эта книга родилась из семинара, который он начал вести в 1934 году. В конце 1920–х — начале 1930–х годов Кожев слушал курсы лекций своего друга А. Койре в Высшей школе практических исследований. В те годы Койре еще не стал известным историком науки, он занимался, прежде всего, историей религии и работал над огромной монографией о Бёме. Один из курсов его лекций был посвящен философии религии, в котором Койре уделил значительное внимание проблеме времени в трактовке Гегеля. Не будучи гегельянцем, Койре сформулировал основной тезис той интерпретации, которую дал «Феноменологии духа» Кожев; разумеется, последний был хорошо знаком и с книгой И. А. Ильина «философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (при всех различиях в трактовке гегелевской философии некоторые «следы» книги Ильина ощутимы в курсе Кожева). На протяжении шести лет (1933–1939) он раз в неделю читал лекции в Высшей школе практических исследований[7]. Среди его слушателей были те, кто сделается «властителями дум» после войны: Ж. Батай, Ж. Лакан, М. Мерло-Понти, Р. Арон, Р. Кено, Р. Кайюа, П. Клоссовски. Время от времени на семинаре появлялся А. Бретон, его посещала X. Арендт, равно как один из самых последовательных антикоммунистов того времени, отец — иезуит Г. Фессар, а также целый ряд интеллектуалов (а иной раз возникали такие фигуры, как одетый по всей форме флотский адмирал). Одни его слушатели (Арон, Батай) с благодарностью признавали огромное влияние на них этого курса, другие, без ссылок на первоисточник, использовали некоторые тезисы Кожева как свои собственные (Лакан). Не посещавший курса Сартр познакомился с конспектами одного из слушателей и воспользовался ими при написании «Бытия и ничто». Французская философия второй половины XX века, с ее непрестанным интересом к трудам Гегеля и Хайдеггера, Маркса и Ницше, в немалой мере формировалась семинаром 1930–х годов по «Феноменологии духа».
Толкование Гегеля завершилось весной 1939 года. Спустя несколько месяцев Кожев был мобилизован и лишь волею случая не оказался в плену. Часть, в которой он служил, перебрасывалась на фронт через Париж. Ему дали увольнительную, вернувшись из которой, он обнаружил, что его полк уже отправлен навстречу немецким танкам: через пару дней они вошли в Париж. Сняв с себя военную форму, Кожев отправился на юг Франции, чтобы через Лиссабон перебраться в Америку. Это сделать ему не удалось. Кожев принимал активное участие в Сопротивлении и едва не был расстрелян в момент ареста, когда в 1944 году пытался распропагандировать роту крымских татар на юге Франции. Сразу после войны один из его прежних слушателей, видный экономист Маржолен предлагает ему принять участие в работе правительства. Кожев быстро демонстрирует, каковы его способности, и становится одним из тех, кто формировал стратегию внешнеэкономических, а отчасти и внешнеполитических отношений Франции.
Об этой его деятельности долгое время ходили легенды, поскольку реальное содержание его работы вплоть до самого последнего времени было скрыто от глаз исследователей. Его именовали «серым кардиналом» (eminence grise) французской политики, но служебные записки не становились достоянием гласности до тех пор, пока называвший себя «учеником» Кожева Р. Барр не стал премьер — министром. Он затребовал документы для «служебного пользования», составленные Кожевом; впоследствии часть из них была передана вдове философа. Некоторые из этих документов были опубликованы в журналах, другие — впервые увидели свет в книге Д. Оффре[8]. Легенда оказалась очень близка правде: Кожев сыграл значительную роль в переговорах по тарифам и пошлинам (как при образовании и совершенствовании ЕЭС, так и в подготовке ГАТТ), в переориентации торговой политики со странами «третьего мира», при подготовке договора 1962 года с Алжиром. Три человека («три барона», как называли их в коридорах власти) направляли тогда внешнеэкономическую политику Франции: Б. Клапье, О. Вормзер и А. Кожев[9]. Однажды на приеме в Вашингтоне посол Франции представлял Г. Киссинджеру Вормзера и Клапье, назвав их в шутку «Бюваром и Пекюше». Киссинджер спросил, указав на Кожева, кем же тогда является «вот этот», и получил ответ: «а это — Флобер». «Трудно лучше определить иерархию в этой троице, — вспоминал Клапье, — с изобретателем или, если угодно, вдохновителем, и двумя исполнителями, каковыми по случаю были то Оливье Вормзер, то я сам». Официально переговоры вели высокопоставленные «исполнители», но направлял их занимавший незначительный пост в министерстве «изобретатель». Это прекрасно знали оппоненты, и в воспоминаниях ряда лиц отмечается, что одно известие об участии Кожева в переговорах вызывало панику в рядах соперников (каковыми чаще всего были англичане и американцы). «Серым кардиналом» его называли не без оснований. Скажем, Жискар д’Эстен, будучи министром, произносит подготовленный Кожевом доклад, а потом прямо спрашивает: «Ну как, Кожев, теперь‑то Вы довольны?» Но Кожев был не просто талантливым «переговорщиком» и стратегом, за его деятельностью на благо Франции и объединяющейся Европы стояла философско — историческая концепция. В 1946 году, по воспоминаниям Р. Арона, Кожев излагал ему свое понимание происходящего: история завершается, она достигла уровня региональных империй (или «общих рынков»). Этот этап предшествует универсальной империи, которая будет зависеть от того, какая из региональных империй будет доминировать. Именно на этой фазе он решил послужить Западной Европе, которая станет сначала «общим рынком», а затем империей в виде федерации. Тогда же Кожевом были написаны документы, которые показывают, почему он столь последовательно проводил антианглийскую и антиамериканскую линию на многих переговорах. Разрушенная во Второй мировой войне Европа, оказавшаяся между американской и советской империями, должна обрести экономическое и политическое могущество и всеми силами отстаивать свою экономическую и культурную самостоятельность, — прежде всего, перед лицом american style of life. He удивительно, что он поддерживал де Голля, хотя русскому эмигранту был чужд культ французской нации генерала. Многие его собеседники 1950–х годов вспоминают приводившийся им «аргумент Жанны д’Арк», хорошо передающий цели его служения объединенной Европе. В условиях, когда крупные феодалы вели непрестанную борьбу, объединить Францию сумела вдохновленная Жанной королевская власть, которая затем, уже при Ришелье, окончательно расправилась с прежними вольностями и установила режим абсолютизма. Если бы феодалы смогли договориться, создать единое экономическое и фискальное пространство, поступившись малой частью своего владычества, то абсолютная монархия не была бы неизбежной. Сегодня абсолютизм предстает в виде коммунистической империи, которая пользуется тем, что западноевропейские страны остаются в плену национального эгоизма, хищнически эксплуатируют колонии, готовя там тем самым кадры для коммунистической революции. Переход Европы к конфедерации, а затем и к федерации, пересмотр колониальной политики — вот средства борьбы с угрозой современного «абсолютизма». В 1950 году в письме известному консервативному политическому философу Л. Штраусу, давнему другу и наиболее последовательному оппоненту, он писал об этом еще более откровенно: либо Запад пойдет на ограничение национального эгоизма, либо победит сталинская империя (с террором, «лысенковщиной» и т. п. следствиями).
Пару лет назад во французской печати появились сведения относительно возможного сотрудничества Кожева с советской разведкой: его имя было обнаружено в так называемом «архиве Митрохина»; говорилось также о том, что он был «связным» крупного французского политика (близкого друга Миттерана) Шарля Эрню с КГБ и «30 лет был агентом советской разведки». В «Le Monde» тут же появилась статья автора единственной биографии Кожева, Д. Оффре, который с рядом оговорок поддержал эту версию. Если учесть, что в написанной этим «глубинным психологом» биографии Кожев выступает как авантюрист с «загадочной славянской душой», возможность подобного сотрудничества с советской разведкой кажется правдоподобной. Она куда менее правдоподобна, если учесть ряд фактов. Кожев был едва знаком с Ш. Эрню (служба коего на советскую разведку тоже вызывает сомнения). То, что Кожев не был агентом разведки по материальным соображениям, ясно всякому, кто хоть раз бывал в его скромной квартире в пригороде Парижа: Кожев жил на весьма скромную зарплату министерского чиновника. Не мог он стать шпионом и по идеологическим соображениям, наподобие тех европейских левых интеллектуалов, которые приняли коммунистическую веру, вроде «кембриджской четверки» во главе с К. Филби. Общение с «евразийцами» в доме Карсавина (к тому времени оставившего это движение) никак не сделало его «возвращенцем» — в письмах Кандинскому содержатся откровенно негативные суждения о правящих в Советской России «стальных людях». В Сопротивлении Кожев участвовал в голлистской, а не в коммунистической его ветви (в организации, которой руководил писатель и будущий голлистский министр А. Мальро). Так что отпадает еще одна возможная версия о вербовке Кожева через аппарат компартии. С нею у Кожева вообще не было никаких связей, а в написанной «в стол» во время войны книге имеется довольно характерное суждение: любое национальное государство должно запрещать деятельность компартии, которая, по определению, оказывается родом «пятой колонны», ибо по своей идеологии несовместима с существованием национальных государств. Вряд ли эти слова могли принадлежать убежденному в победе коммунизма агенту советской разведки. После войны вся деятельность Кожева шла вразрез с интересами Москвы, поскольку объединенная Европа явно не входила в цели Политбюро. По воспоминаниям его близкого друга О. Вормзера (в 1960–е годы он был послом Франции в Москве) Кожев никак не был коммунистом. «Если он иной раз говорил, что таковым был или является, то лишь для смеха или играя словами. Мне он, напротив, не раз объяснял, что покинул Россию сразу же после того, как понял необратимость захвата власти большевиками»[10]. Скорее всего, он был записан в ряды «бойцов невидимого фронта», когда зашел в уже оккупированном немцами Париже в советское посольство вместе с Л. Поляковым (в дальнейшем — автором трудов по истории антисемитизма). Кожев собирался переправиться через Марсель и Лиссабон в Америку, в посольство он занес рукопись книги, которую он не хотел брать с собой. Скорее всего, эта рукопись была сожжена в посольстве вместе с другими бумагами 22 июня 1941 года (черновой ее вариант был обнаружен недавно в архиве Ж. Батая). «Рыцари плаща и кинжала» имеют обыкновение отчитываться перед начальством записями о вербовке людей, которые не имеют ни малейшего представления о своей принадлежности к разведывательному сообществу; иной раз в эти жернова философы лезут сами (история некоторых «евразийцев»), иногда они попадают в них по чрезмерному усердию контрразведчиков — Зеньковский больше года пробыл во французской тюрьме в 1939–1940 годах (судя по всему, его посчитали «советским шпионом»). Все остальное банально: журналистам нужны скандалы, а «глубинным психологам» — возможность покрасоваться в газетах своими поисками бессознательных мотивов.