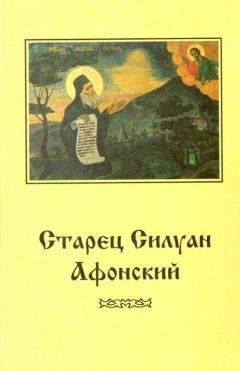Что бы ни разумел Данте — всю ли Римскую церковь или только Римскую курию, — в этом страшном стихе:
там, где каждый день продается Христос,
lá dove Cristo tutto dî si merca, — [167] слишком очевидно совершалось в Риме дьявольское чудо симонии — купля-продажа Духа Святого; Симоном Волхвом побеждался Петр, «черною магией» собственности побеждалась «белая магия» бедности слишком очевидно, чтобы и Франциск мог этого не видеть и не понять или, по крайней мере, не почувствовать, что Святейший Отец, некогда Наместник Петра Нищего, — такой же ныне собственник, как и его, Франциска, грешный отец, Пьетро Бернардоне, и такой же ему естественный враг.
Люди церкви были очень умны, но умен был и Франциск, умнее, чем они думали. Слишком хорошо, конечно, понимал он, откуда идет их сопротивление, но надеялся преодолеть его, — чудом пройти сквозь него, как сквозь стену, и в этом ошибся: черная магия собственности оказалась сильнее белой магии бедности.
Если первый Устав Меньших братьев (или, вернее, отсутствие Устава — свобода евангельская) сначала не был разрешен, а потом — «потерян» или уничтожен, то потому, что люди церкви считали его слишком трудным, сверх сил человеческих, и тем опасным не только для других, но и для себя самих. Сколько бы ни уверял их Франциск в своей преданности, — этот нищий для них, богатых, этот святой для них, священников, был живым укором, — вечным у них бельмом на глазу.
Умнейшим людям Римской церкви, в те дни, могли сниться дурные сны о Франциске: что, если лысинка тонзуры зарастет на косматой голове «лесного человека», лешего, и большей беды наделает Церкви этот вернейший сын ее, чем все еретики, вместе взятые?
LXIII
Как ни велика была над людьми власть Церкви, власть Франциска была еще больше. Люди сливались для Церкви в одно неразличимое стадо, а для Франциска каждый человек был существом отдельным, неповторимым и единственным, и это все люди чувствовали: вот почему и шли к нему в таком множестве. «Братья, погодите, дайте мне подумать, что с вами делать», — принужден он был останавливать людей, когда все население какого-нибудь городка или местечка хотело за ним идти.[168]
Власть же его над Меньшими братьями была еще больше. «Именем святого послушания приказываю», — не успевал он произнести, как все они кидались исполнять его приказание.[169] Слишком понятно, что для Церкви такое послушание не ей, а другому было страшно.
Кто от всего отрекся, тот свободен от всего, неуловим ни для какой власти, мирской или церковной, потому что проходит сквозь нее, как дух — сквозь стену: так свободны Меньшие братья. Слишком понятно, что для Церкви и такая свобода страшна.
Помня слово Господне: «один у вас Отец — на небесах, и один Учитель — Христос», — никого из людей не называл Блаженный ни «отцом» своим, ни «учителем».[170] Если никого, то и папу не называет «Святейшим Отцом»: папа, Глава Церкви, Наместник Христа, равен для него последнему нищему. Слишком понятно, что и такое равенство для Церкви опасно.
LXIV
Около 1209 года, «когда император Оттон проезжал мимо Ривотортской обители в Риме, чтобы там венчаться на царство, — Святейший Отец, Pater Sanctissimus (не папа, а Франциск, — имя это дано ему легендой недаром), — Святейший Отец не вышел из хижины, хотя и находившейся у самой дороги, чтобы взглянуть на великолепное шествие, и никому из братьев не велел выходить, кроме одного, который должен был напомнить императору, что его величие мимолетно».[171]
Солнце называют эти «наименьшие» из людей «Государем-Братом» своим, а император для них равен последнему нищему. Бывший «раб рабов Господних», Servus servorum Dei, мнимый нищий, Наместник Петра, мог бы позавидовать такому царственному величию настоящего раба, действительного нищего — св. Франциска.[172]
«Милует он тех, кого и Бог не помиловал», — говорят о нем люди, чего ни о каком папе не сказали бы.
Солнцем, восходившим над Риво-Торто, затмевалось солнце, заходившее в Риме: вместо папы римского Иннокентия III или Григория IX, — папа Ассизский, Франциск I. Как же было Церкви не испугаться и этого?
LXV
В 1216 году, при посвящении («великой индульгенции») Портионкулы, прочитана была, вероятно самим Франциском, молитва царя Соломона, при посвящении храма Иерусалимского: «Да познают, Господи, имя Твое все племена и народы земли, в доме сем, который я построил Тебе» (III Цар. 8, 43–44). Это значит если еще не для самого Франциска, то для будущих его учеников: Церковь Вселенская — уже не великая Церковь Петра в Риме, а малая церковка Франциска, в Портионкуле.
«Бог призвал нас (Меньших Братьев)… для спасения всех народов земли», — «не только христиан, но и язычников», — скажет ли это Франциск только в легенде или также в истории, — во всяком случае, здесь что-то легендой верно угадано в том, что произошло или могло бы произойти между Франциском и Церковью.[173]
Когда Блаженный молился однажды перед алтарем в церкви Богоматери Ангелов, простирая руки к небу и вопия к Господу, да помилует Он людей своих в предстоящей великой скорби, Господь сказал ему так: «Если хочешь, Франциск, чтобы Я их помиловал, да будет Мне верным Братство твое до конца, ибо только оно осталось у Меня во всем мире… и с ним последний свет потухнет».[174] Это значит: Римская Церковь для Христа потеряна; остается только Церковь Ассизская — Братство Меньших. Очень вероятно, что таких слов из уст Господних не мог бы услышать Франциск; но, кажется, и здесь что-то верно угадано легендою в том, что произошло между Франциском и Церковью.
LXVI
Некоторые ученые братья, на великом собрании в Портионкуле, так называемом «Капитуле Шатров», где собралось пять тысяч братьев, — подойдя к епископу Остийскому (кардиналу Уголино, наместнику Братства), сказали ему так: «Ваше преподобие, убедите брата Франциска послушаться совета умных и ученых братьев… чтобы он руководствовался уставом св. Бенедикта, св. Августина и св. Бернарда, которые учат братьев жить так-то и так-то. Но, только что кардинал передал эти слова Блаженному, прибавив к ним от себя увещание, — тот молча взял его за руку, повел к собранию всего Капитула (пяти тысяч братьев) и, весь пламенея Духом Святым, воскликнул:
— Братья, братья мои! сам Господь открыл пути свои мне и тем, кто идет за мной… Не говорите же мне ни о каких уставах, — ни св. Бенедикта, ни св. Августина, ни св. Бернарда, и ни о каком пути, кроме этого, открытого мне самим Господом, ибо хочет от меня Господь одного, — чтобы я был величайшим в мире безумцем, и нет мне иного пути, кроме этого… Вас же всех, ученых и умных, да посрамит и покарает Господь![175]
„Нет иного пути, кроме открытого мне самим Господом“, — это значит: „Я и Христос; между мной и Христом — никого и ничего“. Сызнова все начинает Франциск, как будто никогда никакой Церкви и не было: „Только одно Братство твое, Франциск, и осталось у Меня во всем мире… и с ним последний свет потухнет“. Вот отчего все пять тысяч братьев Капитула, как вспоминает легенда, были „в великом страхе“, и кардинал Уголино тоже; это страх всей Римской, бывшей церкви перед будущей, Вселенской; вот отчего Франциск „весь пламенеет Духом Святым“. „Бывшая Церковь — Сына; будущая Церковь — Духа“, — скажут некогда ученики Франциска, полагая, что сам он — уже не в бывшей, Римской, а в будущей, Вселенской Церкви, и, может быть, Иоахим согласился бы с ними. Но так ли это? Где сам Франциск, — во Втором или в Третьем Завете, в Церкви Сына или в Церкви Духа? Чтобы ответить на этот вопрос, надо измерить степень наибольшего приближения св. Франциска к откровению Духа, в том религиозном опыте его, действительно небывалом и единственном, который можно бы назвать „Благословением твари“.
LXVII
Если только в Третьем Завете, по ту сторону Евангелия, открывается вся полнота этого нового религиозного опыта, то первая исходная точка его дана уже и во Втором Завете, в Евангелии: взгляните на птиц небесных: не сеют они и жнут, ни собирают в житницы… Посмотрите на полевые лилии, как они растут; не трудятся, не прядут… Итак, не заботьтесь и не говорите: „что нам есть?“ или „что пить?“ или „во что одеться?“
Это значит: „научитесь у животных и растений нищете, наготе, свободе; не жить, а быть“.
С этой-то первой точки и начинает Франциск „Благословение твари“.
„Сестры мои, Птицы, хвалите Творца и любите Его… Вы не сеете, не жнете, но Бог питает вас“, — так говорил Блаженный, и птицы радовались, слушая его; вытягивали шеи, били крыльями и открывали клювы, глядя на него. Он же ходил между ними, касаясь голов их краями одежды… А потом осенил их крестным знамением, и они улетели… И с этого дня начал он проповедывать всей твари… и, с каждым днем, убеждался все больше в покорности ее человеку». — «И жалостью к ней… истаивало сердце Блаженного».[176]