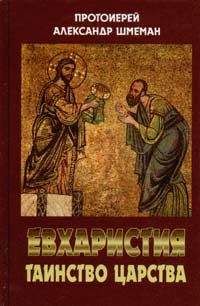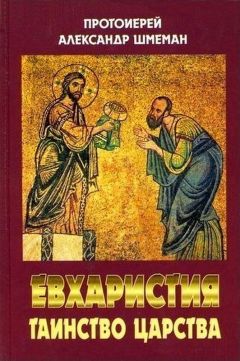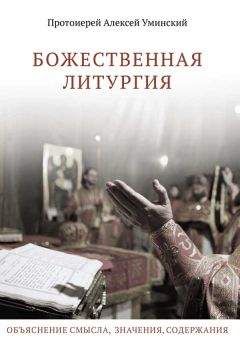Что же это? «Просто символ», в котором «на самом деле» ничего не происходит, не совершается, нет никакой «реальности»? Но тогда позволительно спросить: для чего же он, собственно, нужен? Ведь его, поскольку совершается он в одиночестве алтаря, вне присутствия мiрян, не объяснить даже педагогическими соображениями, как некое поучение. А если так, то в вопросе этом необходимо разобраться, ибо от него зависит правильное понимание Евхаристии и в ней совершающегося жертвоприношения.
Хотя и не сводимый к одной истории, вопрос этот требует, прежде всего, понимания исторических причин, определивших развитие нашей теперешней проскомидии. Исходной точкой этого развития является, вне всякого сомнения, самоочевидное для раннего христианства участие всех членов Церкви в евхаристическом приношении. В сознании, в опыте и в практике ранней Церкви евхаристическая жертва не только приносится от лица всех и за всех, но приносится всеми, и потому основой и условием ее является реальное приношение каждым своего дара, своей жертвы. Каждый приходящий в собрание Церкви приносит с собою все то, что «по расположению сердца» (2 Кор. 9:7) он может уделить на нужды Церкви, и это значит — на пропитание клира, вдов, сирот, содержащихся церковью, на помощь бедным, на все то благотворение, в котором осуществляет себя Церковь как любовь Христова, как забота всех о всех и служение всех всем. Именно в этой жертве любви укоренено евхаристическое приношение, в ней имеет свое начало; и для ранней Церкви это так самоочевидно, что, согласно одному свидетельству, дети-сироты, живущие на иждивении Церкви и не имеющие что принести, участвуют в этой жертве любви приношением воды.
Нарочитыми служителями благотворения и потому этой жертвы любви являются в ранней Церкви дьяконы. На них преимущественно лежит забота не только о материальном благополучии общины (забота, к которой в наши дни сводится почти целиком деятельность всевозможных церковных комитетов и, в сущности, всей церковной организации), а именно — о любви, как самой сущности церковной жизни, о Церкви, как о жертвенном и деятельном служении всех всем. А так как в ранней Церкви место и служение каждого в евхаристическом собрании выражает место и служение (литургию) каждого в жизни общины, то на дьяконах лежит ответственность за принятие от приходящих их даров, за их сортирование и за приготовление той части их, которая, как выражение этого приношения, этой жертвы любви, составит «вещество» евхаристического таинства. Совершение проскомидии дьяконами — а не как теперь, священником, — сохранялось в Церкви вплоть до XIV века, как и принесение именно ими Св. Даров к предстоятелю в начале евхаристического «возношения», евхаристии в собственном смысле. И хотя о происшедшей затем перемене мы еще будем говорить, уже сейчас можно заметить, что если в наше время наличие дьякона в каждой церковной общине перестало ощущаться как необходимое и самоочевидное, как одно из условий полноты церковной жизни, и дьяконство превратилось в некий декоративный придаток (особенно при торжественных архиерейских служениях), а также в ступень для получения священства, то не потому ли, что ослабело, если не совсем выветрилось в нас переживание самой Церкви как любви Христовой, и Литургии — как выражения и исполнения этой любви.
Постепенно, однако, эта первоначальная, как бы семейная практика участия всех в приношении Даров стала усложняться и видоизменяться. Быстрое увеличение числа христиан, а ими — особенно после обращения в христианство самой империи — стало фактически почти все население, сделало практически невозможным приношение в евхаристическое собрание Церкви всего необходимого для церковного благотворения и для житейских нужд общины. Не только признанная государством, но и сосредоточившая постепенно в своих руках всю каритативную деятельность общества, Церковь не могла не превратиться в сложную организацию, не обрасти аппаратом. А это само собой привело к тому, что евхаристическое собрание, бывшее в ранней Церкви средоточием всей жизни Церкви — учения и оглашения, благотворительности и управления, перестало быть таковым. Благотворение, выделившись постепенно в особую сферу церковной деятельности, перестало внешне зависеть от евхаристического приношения. Тут, однако, и подходим мы к самому главному для понимания проскомидии. Ибо столь очевидной была в сознании Церкви внутренняя связь между Евхаристией и «жертвой любви», внутренняя зависимость одной от другой, что приготовление Даров, перестав быть выражением практической нужды, осталось как обряд, эту внутреннюю зависимость выражающий, эту внутреннюю связь осуществляющий. Здесь мы находим яркий пример того закона литургического развития, согласно которому изменение внешней формы определяется зачастую необходимостью сохранить внутреннее содержание, в целости сохранить преемство и тождественность опыта и веры Церкви при всех изменениях внешних условий ее существования. Сколь сложным и во многом специфически «византийским» ни было развитие проскомидии, достигшей своей теперешней формы только в XIV веке, для нас важно то, что она осталась и остается выражением той реальности, из которой она выросла, свидетельством об органической связи между Евхаристией и сущностью самой Церкви как любви, и потому — жертвы и приношения, как исполнения во времени и пространстве жертвы Христовой. Так исторический смысл развития проскомидии позволяет нам перейти теперь к богословскому его смыслу.
Смысл же этот состоит прежде всего в том, что кем бы и как бы ни было приносимо «вещество» евхаристического таинства, то есть Хлеб и Чаша, в них с самого начала мы предузнаем жертву любви Христовой, Самого Христа, нами приносимого и нас в Себе приносящего Богу и Отцу. И это предузнаваниё, эта — до Литургии — знаемая нами и потому «знаменуемая» предназначенность — Хлеба быть претворенным в Тело Христово, Вина — в Кровь Христову, составляет в сущности основу и условие самой возможности евхаристического приношения.
Действительно, мы только потому и служим Литургию, только потому и можем служить ее, что жертва Христова уже принесена и в ней раскрыт и исполнен предвечный замысел Божий о мире и человеке, об их предназначенности, а потому — и возможности для них — стать жертвой Богу и в жертве этой найти свое исполнение.
Да, проскомидия есть символ, но — как и все в Церкви — символ, до конца наполненный реальностью того нового творения, которое во Христе уже есть, но которое в «мiре сем» познается только верой и потому только для веры прозрачными символами. Когда, готовясь к евхаристическому таинству, берем мы в руки хлеб и полагаем его на дискос, мы уже знаем, что хлеб этот, как и все в мiре, как и сам мiр, освящен воплощением и вочеловечением Сына Божьего, и что освящение это в том и состоит, что во Христе восстановлены — для мiра — возможность стать жертвой Богу, для человека — возможность приношения этой жертвы. Что разрушена и преодолена та их самодостаточность, которая и составляет сущность греха и которая сделала хлеб только хлебом — смертной пищей смертного человека, причастием греху и смерти. Что во Христе наша земная пища, претворяемая в наши плоть и кровь, в нас самих и в нашу жизнь, становится тем, для чего она была создана — причастием Божественной жизни, через которое смертное облекается в бессмертное и поглощается смерть победой.
Как раз потому, что единожды принесенная и все в себя включающая жертва Христова до всех наших приношений, в ней имеющих свое начало и содержание, до Литургии — и «проскомидия», приготовление даров. Ибо сущность этого приготовления в «отнесении» хлеба и вина, то есть нас самих и всей нашей жизни, к жертве Христовой, в претворении их именно в дар и приношение. Реальность проскомидии именно тут — в этом знаменовании Хлеба и Вина как жертвы Христовой, включающей в себя все наши жертвы, приношения нами самих себя Богу. Отсюда — жертвенный характер проскомидийного чина, приготовление хлеба как заклание Агнца, вина — как изливание крови, отсюда — собирание каждый раз на дискос всех вокруг Агнца, включение всех в Его жертву. И потому только когда завершено это приготовление, когда все отнесено к жертве Христовой и включено в нее, и видимо для очей веры предлежит на дискосе наша «скрытая со Христом в Боге жизнь», может начаться Литургия: вечное принесение принесшего Себя и в Себе все сущее — Богу, восхождение нашей жизни туда — к престолу Царства — куда вознес ее, став Сыном Человеческим, Сын Божий.
Конечно, как и многое другое в нашем богослужении, проскомидия нуждается в очищении; но как раз не чина, не формы, а того восприятия ее, что в сознаний верующих сделало ее «только символом», уже в расцерковленном, номинальном смысле этого слова. Так, очистить, лучше же сказать — восстановить, нужно подлинный смысл того поминовения, которое в понимании верующих и духовенства свелось к одному из видов молитвы «за здравие» и «за упокой», то есть все к тому же предельно индивидуализированному и утилитарному пониманию церковного богослужения. Тогда как основной смысл этого поминовения как раз в его жертвенном характере, в отнесении всех нас вместе и каждого в отдельности к Христовой жертве, в собирании и созидании вокруг Агнца Божия новой твари. И в том сила и радость этого поминовения, что преодолеваются в нем перегородки между живыми и мертвыми, между земной Церковью и небесной, ибо все мы — и живые и усопшие — «умерли и жизнь наша скрыта со Христом в Боге», ибо собрана на дискосе вся Церковь во главе с Божией Матерью и всеми святыми, ибо все соединены в этом приношении Христом Своего прославленного и обоженного человечества Богу и Отцу. Поэтому, вынимая частицу и произнося имя, не просто о «здравии» — своем или своих ближних — печемся мы, и не о «загробной участи» умерших; мы приносим и отдаем их Богу в жертву «живую и благоугодную», дабы сделать их причастными «неисчерпаемой жизни» Царства Божия. Мы погружаем их в прощение грехов, воссиявшее из гроба, в ту исцеленную, восстановленную и обоженную жизнь, для которой создал их Бог.