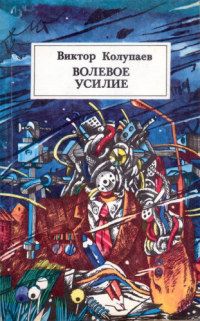Конечно, надо было видоизменить и более искусно выразить осужденное учение Павла, сохраняя его существо. — И Лукиан настаивал на «нерожденности» и «безначальности» Бога, вслед за Аристотелем резко отделяя Его от мира: «нет ничего из сущности Бога, но все Его волею соделано». Логос не может быть и Богом и особой Ипостасью (личностью). Но, в противность динамисту Павлу, Лукиан личное бытие Логоса признавал. Ему оставался один выход: возвышая Логос над всеми тварями, все же признать Его тварью (κτίσμα, ποίημα) воли Божьей, не происшедшим из Божьей сущности, а сотворенным «из несущего» (εκ ουκ ’όντων). — Слово, хотя и подобно Отцу и Божественно, есть некоторое творение, и притом созданное Богом во времени. Оно соединилось во Христе с человеческою плотью. Таким образом, грань между Богом и тварью совпадала с гранью между Богом и Логосом, единство которых могло быть, как и у Павла, лишь согласованностью воли. Отношение же Логоса к людям становилось и совсем темным.
Александрийское богословие, кроме самой Александрии, где традиции его после Оригена сохранялись Геракласом, Дионисием Великим (ум. в 264 г.), Феогностом, переделавшим «О началах», Пиерием («Оригеном младшим»), Петром и др., укоренилось в Палестине (в Кесарии — одушевленные почитатели Оригена Памфил и Евсевий), в Кесарии Каппадокийской (Александр, Фирмилиан), в Неокесарии (Григорий Чудотворец), даже в Ликии (Мефодий, стр.63). Однако христианский гносис Оригена был доступен немногим и часто отрывался от жизненных проблем. К тому же даже в сфере своего влияния отдельные теории Оригена вызывали справедливые сомнения и возражения и подвергались или разрушающей критике, или переработке. Вырванные же из системной связи отдельные мысли и утверждения Оригена становились и совсем непонятными. Так, увещевания, обращенные Дионисием Великим к савеллианствующим епископам Киренаики, вызвали переполох в Риме. — Отрицание Дионисием слова «единосущий» (ср. стр.81) и наименование им Сына Божьего «созданием» были поняты как близкая адоптианству ересь, хотя в связи Оригеновских мыслей это имело совсем иной, если и не точный, то и не еретический смысл (стр.67 сл.). На термины и отдельные выражения Оригена могли ссылаться и лукианисты (см. там же). С другой стороны, Дионисию же в самой Александрии пришлось бороться с выступлениями против аллегорического метода. Многое, таким образом, выдвигало антиохийцев. И особенно существенным представлялось, что они сосредоточивали мысль на жизненно основной проблеме христианства, напоминая о Христе–человеке.
Примечания:
См. А. Спасского Тринит. споры. Главные источники: Hippoliti Philosophum. (Migne т.16 и Р. Cruice Philosophumena… Parisiis, 1860), Contra haeresim Noeti (Migne т.10), Contra Artemonem (Migne т.20 и в серии Гебгардта–Гарнака. E u s e b 2, ed. E. Schwart), Tertulliani Adversus Praxeam (Migne, s. lat, 2; Corpus scriptorum ecelesiasticorum latinorum, Vindobonae, v.47). Cм. особенно О r i g e n e s I n I o h a n n. 2, 2; 10; 37; Т e r t u l l. Adv. Prax. 3, 27, 29; H i p p o l. Philos, 9, 7; 10, 10, 27, 32; A h t a n a s i i Contra Arianos or. 4, 2, 13, 25; он же De Syn. c. 51; E p i p h a n. Haeres. 62; T h e о d о r e t i Haer. fab. 2, 9; 3, 3.
1. Истина Церкви отличается «кафолическим» (καθολικός) или по точнейшему древнеславянскому переводу — «соборным» характером. Она истинна по целому своему, по всему (καθόλου), всячески и во всяческом. Поэтому она абсолютно несомненна. Поэтому же она не может быть выражена индивидуумом. Поэтому же, наконец, она не выразима даже общецерковным отвлеченным догматическим определением, хотя именно им может быть с несомненностью означаемой. Ведь «догма» или общезначимое определение Истины Церковью не является отвлеченным теоретическим положением, которое бы притязало на свою истинность в отрыве от полноты жизни церковной и содержало исчерпывающим образом все, во что должен верить христианин. Догма лишь отграничение истины от обличаемой ею лжи и некоторое очерчение сферы, которую всякий должен постигать в мере и качестве дарованной ему благодати, т. е. непременно индивидуально и непременно соборно или в любовном согласовании с другими такими же индивидуальными постижениями, симфонически. При этом сознание недоведомости Божьей тайны и христианская взаимная любовь восполняют эмпирическое несовершенство теоретического согласования.
Потому Истина Церкви и раскрывается в борениях и спорах, насыщая и освобождая всякого, кто по–христиански ее ищет, но и пребывая выше его индивидуальных заблуждений, преодолеваемых Церковью в сознании соборности и Христовой любви. Необходимое условие для эмпирического существования церковной Истины заключается в единстве Церкви, ибо только все единое Тело Церкви, только весь «народ церковный» в силах непорочно хранить и осуществлять, т. е. и раскрывать, эту Истину. Видимыми выражениями церковного единства издавна были единство всякой церковной общины, возглавляемой своим епископом, общение этих общин или «церквей» и соборы. Конечно, каждое такое эмпирическое единение, в том числе и соборы, обосновывает и выражает Истину лишь в меру собственной своей церковности или соборности (кафоличности). Это обнаруживается в приятии соборных решений всем телом церковным, т. е. и каждой отдельной общиной, как и в том, что не число голосов и не количество или авторитетность собравшихся определяют Истину, а дух церковного единства и любви и глаголющий устами собравшихся Дух Святой (ср. введение).
В начале IV в., когда уже выяснились и Богочеловечество как основная христианская проблема, и тщета индивидуальных попыток ее разрешить, с особенной остротой переживалась потребность во внешнем выражении соборного единства и соборного труда Церкви. Наступало единственное в истории время соборного искания и обретения Истины. Но вместе с тем множились и соблазны. — Людям легко было подменять соборное выражение Истины выражением ее на соборах, среди которых бывали не соборные, а сборные. Легко было смешать соборную истину с внешне общеобязательным определением, всеединое — с отвлеченно общим, дух любовного согласия — с духом нетерпимого принуждения. Установилось внешнее единство Империи, и Константин Великий сделал внешне единой и Церковь. Солдат, понимавший единство в духе лагерной дисциплины, политик, раздражаемый всякой помехой его элементарным схемам, преемник «великих понтификов» языческого Рима, Константин счел себя «епископом от внешних» во внешне объединенной им Церкви, хотя в уповании на личное спасение и не крестился, а оставался «оглашенным» до последних часов своей жизни (337 г.). И его отношение к Церкви сделалось традицией императоров. Понятно, что около императора по преимуществу собирались иерархи, также понимавшие задачи церковной политики государства, к тому же не самые стойкие и не лучшие. Большинство из них проникалось духом политиканства и интриги и замещало искреннюю веру бесплодной софистикой в кругу придворных евнухов, которые, по слову св. Афанасия Великого, едва ли могли что–нибудь понять в рождении Сына Божьего. Через них интриги и политиканство просачивались вниз. К несчастью, и состояние только что пережившей период гонений Церкви способствовало смешению религиозных вопросов с церковно–административными и политическими. В разных церквах далеко еще не улеглась схизма, вызванная вопросом об отношении к отпавшим от Церкви во время преследований. Ревнители не хотели соглашаться с терпимостью церковной иерархии и часто разрывали с ней, образуя собственные «церкви» (донатисты в Африке). Так было и в Александрии при Петре (Мелетианская схизма). Здесь раскол лишь затих, всегда готовый разгореться снова, чему способствовала и большая самостоятельность отдельных церковных приходов в самой Александрии.
2. Епископ Александрийский Александр (312—328 гг.) учил о Боге Слове в духе и традициях оригенизма. Оригенисты же (стр.85) самым решительным образом отстраняли всякое материалистическое представление о Божестве и, следовательно, всякое понимание рождение Сына в смысле эманации или деления Божьей сущности. Поэтому многим из них представлялось недопустимым или опасным говорить о «рождении из сущности» (εκ της ουσίας) и о «единосущном» (δμουσίος) Отцу Сыне, что казалось естественным на Западе, где под влиянием Тертуллиана настаивали именно на терминах «ex substantia, «unius substantiae», «consubstantialis», причем сам Тертуллиан прямо–таки и мыслил Бога как разделяющееся на три части (portiones) тело. С другой стороны, утверждение «единосущи» легко истолковывалось в духе савеллианства (стр.83). Чтобы подчеркнуть отличность Сына, оригенисты часто называли Его «созданием» (κτίσμα, ποίημα, γενετόυ), разумея оригеновскую мысль об отношении между «первой силой» и «второй силой» (стр.96 сл.). Однако оригенисты с неменьшей энергией настаивали на совечности Сына Отцу, на полноте Его Божественности, чем преодолевалось уже Оригеновское субординацианство. Отрицая в Троице что–либо «созданное» или «рабское» (Григорий Чуд.), некоторые из них говорили даже о «рождении из сущности» (Феогност) или соглашались с термином «единосущный», или «омоусиос», хотя и не в материалистическом его истолковании (Дионисий Вел.). «Сын был у Отца всегда», говорил Александр, как Отчая Премудрость, так «непреложный образ Отца», вполне и точно Его выражающий и отпечатлевающий в Себе «подобие Отцу по всему». Сын — Бог безначальный, хотя и рождается и рожден Отцом. Но рожден Он «не из несущего, а из сущего Отца», не по разделению или истечению, как думают Савеллий и Валентин, а неизреченно и непоказуемо: так, что Он — иная сущность (ΰπόστασις, термин, еще плохо отличаемый от «όσια»). Единственное отличие Сына от Отца — в рожденности, однако не временной, не исключающей совечности Отцу.