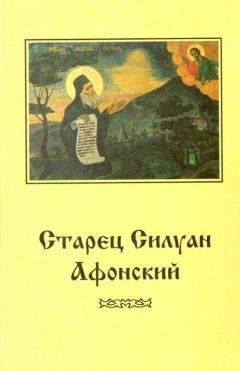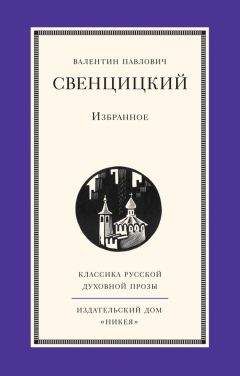О. Иван укладывает все в свою сумку, снова надевает ее на плечи, и мы отправляемся дальше.
Солнце совсем вышло из-за гор и вместе с высыхающей росой от земли подымается крепкий, опьяняющий запах…
Мы идем с о. Вениамином рядом. Я взглядываю на него и вспоминаю тонкий, белый крест его работы.
— Где это вы так хорошо научились резать по дереву?
— На Старом Афоне.
— Вы долго жили там?
— Лет десять.
— А почему же ушли? Вот уж где можно было жить в безмолвии!
— Нет, на Старом Афоне теперь безмолвия никак найти нельзя. Потому и ушел. Всюду народ. А потом дорого — средства не позволяют.
— Как то есть дорого?
— Надо купить себе келью, даже, скажем, не купить, а в аренду снять. Теперь там каждая пещера в аренду сдается. Хозяева больше греки. За самую плохенькую пещеру заплатишь рублей двести… По монастырскому там жить ничего, хорошо. А кто хочет в пустыню уйти — некуда!
— Как же вы сюда-то попали, о. Вениамин?
— Как попал! Приезжали туда монахи с Нового Афона, рассказывали, что вот тут, на кавказских горах, пустынники живут, а я уж давно в мыслях имел, как бы уйти в безмолвие. Подумал, подумал — взял да и поехал. Приехал в Россию, даже к родным не зашел — прямо сюда.
— Думаете и дальше здесь жить?
— Как Богу будет угодно. Жить хорошо. Если бы своя церковь — лучшего не надо.
Мы дошли до того места, где два дня назад о. Вениамин поклонился мне земным поклоном. Даже трава все еще примята была на том месте, где мы стояли с ним.
Спускаемся по узкой дороге, по которой так тяжело было идти после ссоры с о. Вениамином. А вот и то-место, где отдыхали мы после крутого подъема, где о. Вениамин обратился ко мне с своей просьбой.
Останавливаемся. О. Вениамин и о. Исаакий дальше провожать не пойдут.
О. Исаакий говорит мне:
— Если у вас будет когда-нибудь душевное затруднение, напишите нам: одному иногда трудно бывает разобраться. Мы общими силами, вместе с вами сделаем это. А еще лучше — приезжайте сюда сами.
Он берет меня за обе руки и крепко жмет их своими маленькими холодными руками, в одной из них я чувствую четки.
О. Вениамин очень расстроен. Он молча обхватывает мои плечи, целует меня так же, как тогда, когда мы мирились с ним, и повышенным тоном, почти с пафосом, говорит:
— Пусть эти братские поцелуи будут… как бы залогом… потому что мы полюбили…
Пафос его неделанный, а торжественные фразы оттого, что он много переживает в эту минуту и чувствует, что слова должны быть какие-то особенные… Но у него ничего не выходит, и он беспомощно смотрит на меня и молча тискает руку…
— Я тоже как-то сразу полюбил вас всех, — говорю я, — и никогда вас не забуду. Спасибо вам за все. — Мы убогие люди, немощные, — совсем растроганно говорит о. Вениамин, — простите нашу худобу. А если видели что хорошее, это не наше, это от Господа…
— Прощайте!
— Прощайте, — говорят враз о. Исаакий и о. Вениамин.
И в последний раз кланяются нам поясным поклоном.
Мы начинаем спускаться по самому крутому склону. Идем в таком порядке: о. Иван, потом я, сзади меня о. Сергий. Впрочем, нельзя сказать, что он идет сзади. Он все время меняет место — то заходит с одного бока, то с другого, то идет впереди, все это в зависимости от того, с какой стороны надо оказывать мне помощь. Один я решительно не мог бы сойти с этой горы. Местами меня очень осторожно спускают на руках: о. Иван подставляет спину, я держусь за нее обеими руками, а о. Сергий одной рукой поддерживает за пояс, другой за локоть, и я едва касаюсь ногами отвесной скалы, по которой идет спуск. Больше всего удивляет меня о. Сергий. В таких сапогах, которые хуже пудовых вериг и он на этих скалах, уступах, почти отвесных обрывах, чувствует себя точно на городской мостовой.
Первый раз мы решились отдохнуть в том самом овраге, где с о. Иваном встретили о. Вениамина с о. Константином.
— Ну, спасибо, о. Сергий, что проводил нас, — говорит о. Иван: — теперь иди домой, трудную дорогу прошли.
В это время, где-то внизу, в горах, раздается выстрел.
— Нет, уж я провожу вас до реки… Вон и стреляют… Все буду думать: не случилось ли что. Провожу до ровной дороги, тогда уж пойду спокойно…
Идем дальше. Последний невысокий подъем в гору. Поляна. И наконец некрутой спуск, по которому трудно было всходить и так легко теперь идти под гору.
Меня пустили идти вперед:
— Чтобы, как захотите, так и идти, поскорей или потише, — объяснил мне о. Иван.
Мы идем очень быстро. Ноги сами все ускоряют и ускоряют шаг, так и хочется, как бывало в детстве, расставить руки крыльями и бегом «полететь» с горы.
Оглядываюсь назад: о. Иван идет по-прежнему своим сильным, широким шагом, но отстал от меня довольно далеко. О. Сергий в «скороходах» делает до смешного большие шаги, чтобы поспеть за мной, и тоже далеко.
— Лучше пустынников идете! — весело кричит мне о. Иван.
— Домой скорей хочется, — смеется о. Сергий. Я не заметил, как тропа круто повернула направо, и спустилась прямо к реке. Я остановился.
— Ну, вот и конец, — сказал о. Сергий, подходя ко мне, — теперь пойдете прямо. Мне, пожалуй, можно и вернуться.
— Конечно, иди, о. Сергий, — сказал и о. Иван: — теперь дойдем хорошо.
— Значит — попрощаемся… Я протянул о. Сергию руку.
Он подал мне свою мозолистую, с несгибающимися пальцами. И несколько раз низко, низко поклонился.
— Прощайте, о. Сергий, — сказал я, — дай вам Бог всего хорошего. Давайте поцелуемся.
— Спаси вас Господи, — сказал о. Сергий, очень тихо, почти над самым моим ухом.
— Может быть, навсегда прощаемся, о. Сергий, не забывайте меня.
О. Сергий еще раз низко, низко поклонился мне…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Долго шли мы с о. Иваном молча. Всякое прощание действует на душу, как-то особенно чувствуется в нем скрытое слово: «навсегда» и это заставляет сердце биться тревожно…
Но здесь было еще и другое.
За несколько дней, проведенных мною у о. Сергия и о. Исаакия, я не только полюбил их, но, как это ни странно — привык к ним.
Я прощался с ними совершенно так же, как стал бы прощаться, проживши на этой горе не два дня, а долгие годы…
Правда, передо мной не вставали воспоминания долгих лет, проведенных вместе, но я ясно чувствовал, что кончилась какая-то одна большая и сложная жизнь, и вот теперь начнется другая…
Путешествие собственно кончилось, и потому идти обратно хотелось как можно скорее.
Мы с о. Иваном решились на довольно смелое предприятие — дойти сразу до Лат. Там переночевать. Выехать рано утром, попасть в Цебельду к вечернему дилижансу, т. е. часам к четырем дня, чтобы в тот же день к вечеру я мог быть в Сухуме.
Спуск с горы почти не утомил меня, и мне казалось, что тридцать пять верст до Филиппа я пройду легко.
В духане Чхалта, где неделю назад мы встретили сумасшедшего монаха, было пусто и тихо. Закупили провизии: сахару, хлеба и консервов. Из овощей консервов не оказалось — только рыбные.
— Не свежие они у вас, наверное, — говорю я хозяину, — отравимся мы с о. Иваном.
— Зачем травиться? Ручаться можем! Если отравишься, приходи, назад деньги дадим…
— Да, когда помрешь, тогда и разговаривай с вами.
— Зачем помрешь? Сам ем, жена ест, дети кушают — не помираем, а ты помрешь! Самые свежие. Головой ручаться могу.
Пришлось согласиться!..
Мы с о. Иваном решили идти не торопясь, чаще отдыхать, чтобы непременно хватило сил дойти до Лат сегодня же.
Первый привал сделали на берегу реки Зимы. И то больше «для порядка», усталости почти не было.
Верстах в десяти от Аджар встретили туриста. Молодой человек, по-видимому, студент. Лицо красное, потное, измученное. За спиной громадный узел, нечто вроде подушек и матраца!
— Далеко до Клухорского перевала? — спросил он, останавливаясь.
О. Иван подумал и сказал:
— Верст пятьдесят будет. А то и больше. Измученное лицо экскурсанта вытянулось. Глаза стали круглые и испуганные.
— Как пятьдесят, что вы говорите! — набросился он на о. Ивана, точно тот виноват был, что до перевала так далеко, — в путеводителе сказано, что Клухорский перевал на восьмидесятой версте от Сухума, я прошел семьдесят, а вы говорите еще пятьдесят, — чуть не плача закончил он.
— В путеводителе много ошибок должно быть, — сказал о. Иван, — я уж несколько раз встречаю экскурсантов, которые вот так же на какой-то путеводитель ссылаются. Да вы сами рассчитайте: Аджары на восьмидесятой версте от Сухума, а от Аджар до перевала больше дня ходу.
Экскурсант стоял совершенно ошеломленный. Вид у него был и жалкий, и смешной. Видимо, он шел из последних сил, предвкушая близость отдыха, и вдруг почти половина пути впереди.
Чтобы хоть немного утешить его, я посоветовал: