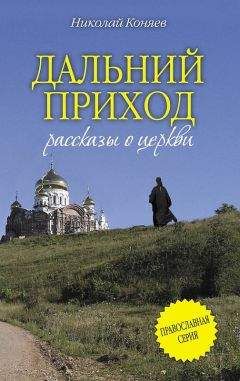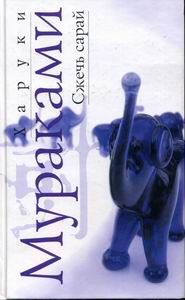И задумался крестьянин, как только русский мужик умеет задумываться, уже ни на что более не отвлекаясь и не беспокоясь более ни о чем.
А обдумавши все, отправился в лес, нашел подходящее дерево и, повалив его, смастерил крест. Потом топор в пенек воткнул, перекрестился и, взвалив крест на плечи, двинулся в путь.
Куда?
А куда глаза глядели…
Тяжел крест, но нести надо, раз взялся…
И долго мужик шел.
Может, неделю, а может — месяц. Главное, что всю оставшуюся жизнь…
А в конце жизни пришел он к монастырю.
Остановился у входа, а не войти — слишком велик крест оказался, не проходит в ворота.
Предлагали мужику, дескать, сними с плеч крест, разберем его, пронесем через ворота, тогда снова поднимешь на плечи…
— Нет, — отвечал мужик. — Никак нельзя. Невозможно его с плеч снять, покуда до конца не донесу…
Ну, нельзя, так нельзя.
Остался он с крестом за стеною монастыря.
Прошел день и наступила ночь.
Утром пошли монахи в церковь — стоит мужик с крестом за воротами. Никуда не ушел. Дальше ему идти некуда…
Игумен к мужику вышел.
— Так, мол, и так, — говорит. — Не проходит в ворота крест твой. А стену ломать монастырскую не положено. Да и опасно очень — враг приближается… Как без стены оборонимся?
— Не надо ломать… — отвечает мужик. — Я тут постою, пока силы будут…
Прослезился игумен и в келью к себе ушел — молитву творить.
И было ночью видение игумену. Утром собрал он братию и благословил — монастырскую стену разбирать.
Разбирают ее монахи, а стена не в теперешние времена делана, не разбирается никак. Каждый камушек вырубать приходится.
Несколько дней и ночей трудились, покуда проломили стену. А только ввели мужика с крестом в монастырь, тут и враги…
Скачут необозримые полчища. Стрелы летят тучами. Сабли сверкают…
Думали монахи, что погибель монастырю наступает. Прямо в пролом мчится вражья конница…
А мужик, едва только вошел в монастырь, слабеть стал, прислонился с крестом к стене, в аккурат пролом им закрыв, перекрестился и помер…
— А враги? — спросил я. — Они ведь в монастырь хотели ворваться!
— Не ворвались… — заверил рассказчик. — Никто тот крест сокрушить не смог. Сказывают, что тракторами его тащили, да он не поддался. Немцы танками пытались свалить, а он все равно стоит… И сейчас, сказывают, на том же месте, куда и поставили. Никто, никакая сила не может сдвинуть…
Перекрестился рассказчик, завершая свою историю.
И с этим исчезает он в сумерках детской памяти…
Только крестное знамение и осталось от неведомо откуда и неведомо куда шедшего мимо нашего дома по обугленной послевоенной земле странника…
Но и сейчас, через столько лет, закрываешь глаза и видишь, как движется старческая рука, творя это крестное знамение…
6 марта 1998 г.
То лето началось для нас с разорения птичьих гнезд…
Был конец июня, но лето у нас всегда начинается поздно, было холодно, и вот с утра старшие ребята отправились в котлован.
Там, за поселком, на берегу реки стоял заброшенный леспромхозовский сарай, облепленный комочками ласточкиных гнезд. Эти гнезда и разорили старшие ребята. Вернулись они с птенцами за пазухами. Часть птенцов по дороге умерла — они достались знакомым кошкам, а некоторые еще жили, и ребята отдали их нашим девчонкам.
Одного птенца забрала моя сестра.
Вначале мы налаживали на чердаке гнездо вместе, но потом я неосторожно погладил птенца, и сестра прогнала меня.
Было ужасно обидно.
Сестра по-прежнему возилась на чердаке — мастерила из тряпочек гнездо, потом носила с огорода червяков, чтобы кормить своего квартиранта. Я же — откуда только сила взялась? — перетащил от хлева к дому лестницу и, размазывая по лицу слезы, забрался наверх.
За наличником кухонного окна у нас жило семейство мухоловок… Оттуда я и вытащил двух птенцов. Покрытые не потемневшей еще прозрачной кожицей, жалкие, как-то странно похожие на голых скорчившихся человечков, лежали они на моей ладони. Когда они перестали шевелиться, я испугался и засунул птенцов назад, за наличник.
Я вовремя сделал это. Едва я убрал лестницу, как прилетели взрослые мухоловки и, тревожно цикая, запрыгали по наличнику. Несколько раз заныривали в гнездо, громко переговариваясь между собой.
Из дома вышла мать.
— Кот залез… — посмотрев на мухоловок, сказала она. — От рыжий леший!
— Не… — запротестовал я. — Не! Это не наш Барсик, мама… Чужой кот ходил…
Мать как-то странно посмотрела на меня, тяжело вздохнула и ушла в дом.
Птенец, которого выхаживала сестра, к вечеру умер. Сестра теперь не прогоняла меня, и мы вместе похоронили его — в пустой консервной банке возле кустов крапивы.
Утром, на ребячьем пригорке, мы узнали, что умерли и другие птенцы. Кроме того, который достался Сашке Горшкову…
Трудно было в это поверить.
Тем более что Сашка был не нашим, не поселковым… Он жил в Петрозаводске, а в поселок приезжал на каникулы.
— Врешь… — сказал Колька Кондров.
— Чего вру-то?! — закричал Сашка. — Я могу показать, если не веришь!
И вот всей гурьбой мы вошли во двор к бабушке Горшковой.
Двор как двор.
Развешенное на веревках белье… Покосившаяся поленница дров… На крыльце стоят измаранные глиной сапоги… Все как у всех.
— Сейчас… — сказал Сашка. — Подождите здесь.
И он исчез в доме.
Назад он вышел не один, а с бабушкой — обычной старушкой в белой косынке.
В руках она держала птенца.
— Только руками не трогать! — строго предупредила она и вздохнула. — От хулиганы-то. Столько гнезд разорили…
Из-за спин старших ребят я ничего не увидел, но, судя по голосам, Сашка не соврал — птенец был жив.
— Ну что? — спросила бабушка. — Насмотрелись, ироды?
Она осторожно погладила птенца.
— Не бойся…
Смущенные, уходили мы.
— Это что… — уже на ребячьем пригорке рассказывал Сашка. — У бабушки всякие птицы живут. Она даже разговаривает с ними!
— Не ври… — неуверенно сказал Колька Кондров.
— Я и не вру! — сказал Сашка. — Я сам слышал, как она с ними говорит.
— Ну, а они?
— И они тоже… Только я не понимаю, чего они говорят, а бабушка разбирает. У нее… — Сашка таинственно понизил голос. — У нее косынка такая. Повяжет на голову и сразу всех птиц понимает. Да вы сами на ней эту косынку видели…
— Не выдумывай! — строго сказал Колька Кондров и о чем-то задумался.
— Я и не выдумываю! Бабушка сама про себя говорит, что она — птичья…
Это прозвище бабушки Горшковой мы и раньше слышали. Ее называли так взрослые, насмехаясь над возней с больными птицами.
Да и встречали мы бабушку Горшкову десятки раз…
Но хотя и слышали, хотя и встречали, как бы и не замечали ее.
И вот только сейчас, после чуда воскресения ласточкиного детеныша, после Сашкиного рассказа о волшебном платке, увидели ее по-новому.
И сразу притихли, пытаясь вместить это чудо в свое сознание.
— Да ну! — вдруг сказал Колька Кондров. — Сказки все это! Пошли лучше рыбу ловить.
И рассеялся сказочный туман.
Рыбачить я не пошел. Видел, как возились ребята на старой, полузатопленной барже, а потом расходились по домам. Только Кольке и удалась рыбалка. Когда он проходил мимо ребячьего пригорка, на прутике-кукане трепыхались рыбешки.
Вечером мать послала меня отнести в поселок молоко. Обычно молоко носила сестра, но в тот день я не стал спорить, взял бидончик и пошел. Возвращался задворками.
Там и увидел Кольку Кондрова. Колька сидел на камне возле смородиновых кустов и голова его была обмотана белой косынкой.
Заметив меня, Колька смутился и погрозил кулаком.
— Понял?
— Ага… — сказал я. — А это… ее платок? Волшебный?
Кондров задумчиво посмотрел на меня, потом сплюнул.
— А ты как думаешь? Что я, в обыкновенном платке буду сидеть?
— Колька! — попросил я. — Дай послушать, о чем они говорят. Ну, Колька…
Наконец он сжалился и намотал на мою голову косынку. Ворчали в кустах смородины дрозды, на косой скворечне сидел толстый скворец и задумчиво смотрел на меня.
— Ну, хватит! — Колька стащил с моей головы косынку. — Послушал и хватит. Понял что-нибудь?
— Ага! — сказал я и чуть не задохнулся от неожиданной догадки: ведь не случайно так смотрел на меня толстый скворец — еще мгновение, и он бы сказал что-нибудь, он явно собирался сказать что-то…
— Колька! — взмолился я. — Ну дай еще послушать!
— Хватит! — Колька засунул косынку в карман. — Давай вали отсюда и не вздумай рассказывать, что платок у меня.