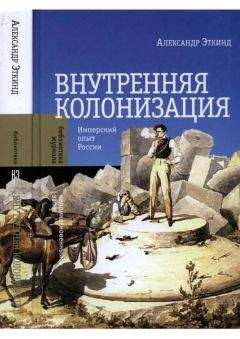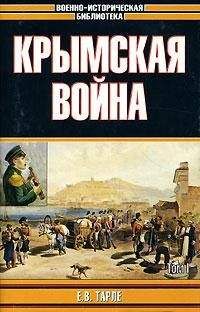Полвека назад один французский автор (Поль Моран) объявил наиболее трудным для произношения английским словом только что мною упомянутый «ромэнс», — в сообществе (нужно думать по широкому э) с названием гостиницы Клэридж [94]. С нашей стороны, я бы выдвинул на такой пост кандидатуру слова «мыло», где первый слог «европёянкам нежным» мученье, но где и л им претит, пополнев, как и всегда надлежит ему расстегивать пояс, — перед а, перед о, переду перед тем же бегемотским яры. Зато русским поэтам это л едва ли не всех прочих звуков дороже…
«Как речь славянская лелеет / Усладу жен! Какая мгла / Благоухает, лун- ность млеет / В медлительном славянском ла!» Ровно шестьдесят лет прошло с тех пор, как запомнились мне эти стихи, но «Cor ardens», покидая отечество, я в сундуке своем не увез, и помню, из второй половины восьмистишия, лишь последнюю строчку: «Звучит о ней очаровала». «Лунность млеет», это немножко, как мадам де Курдюкофф, живущая во мне, говорит, оммаж а нотр «бель эпок» [95], — но дело не в этом. Вячеслав Иванов, в полушуточных этих стихах, как нельзя лучше отметил не временный какой‑нибудь пошиб или вкус, а постоянную черту поэтической русской речи, укорененную в звуковом составе самого нашего языка. Баритонные эти эл, дополняемые тоньше и легче звучащими мягкими эль, и в самом деле составляют основу того, чтб некогда называлось у нас сладкогласием или плавностью, — не без помощи, как видим, самого этого ла в составе сих ласкательных вокабул. По словам Державина, сладкогласие состоит «в искусном наборе слов, к выговору удобнейших, слуху приятнейших и приличнейших описываемому предмету и обстоятельствам». Пиитикой занимался он всерьез: принял во внимание обе стороны чистой (независимой от смысла) евфонии, акустическую и артикуляционную, да и соответствия смыслу не забыл. А пример такого сладкогласия приводит он из стихов друга своего Капниста «Поля, леса густые, / Спокойствия удел, / Где дни мои златые, / Где я Лизету пел», — поясняя однако, что «осмелился отменить рескую букву (р), делающую некоторую громкость, поместя вместо предел —удел».
Представление об антагонизме этих двух «плавных» и вообще было ему свойственно, как о том свидетельствует «Соловей во сне», откуда, при большом обилии л, р исключено, как и из некоторых других сладкогласно анакреонтических стихотворений, — и подобно тому, как еще в 1899–м году Бальмонт исключил его из своей «Влаги», где ни одного слова нет без л. Однако наличие многих ал и ла в пленительном «Соловье» (особенно в первой из его двух строф), или лепет сходных слогов в слегка досадной по нарочитости своей «Влаге» — «Ластятся волны к веслу / Ластится к влаге лилея» — действенней, без сомнения, ласкает слух, чем отсутствие каких‑либо «речек», «роз» или «ручейков». Вовсе отсутствие это самим сладкогласием и не предписано, как нас в том убеждает и та же Лалла Рук, и «очаровала» у Вячеслава Иванова, и такие, например, строчки в четвертой главе «Онегина»: «Лов- ласов обветшала слава / Со славой красных каблуков / И величавых париков», тдера и ри вовсе не вредят всем этим ла, переходящим в лу и ли. Полагаю, что здесь, в отличие от сходных звукосочетаний в других главах (о них еще будет речь) услада эта не нарочита и уж «описываемым предметом» во всяком случае не мотивирована. Но она тем не менее налицо, Пушкиным не исключена, благозвучию стиха содействует, а если «сладкогласие» и возможно от более нейтрального благозвучия отличать, то нежелательным будет разумно его счесть лишь в совершенно определенных, предуказанных смыслом случаях.
В сборнике «Поэтика» 1919–го года есть статья Л. П. Якубинского о «Скоплении одинаковых плавных», где на основании одной немецкой языковедческой работы [96] остроумно подчеркивается контраст между стремлением избежать этого скопления в практической речи и отсутствием такого стремления в речи поэтической (у этого автора позаимствовал я и цитату, приведенную им в другой статье того же сборника, из пиитических рассуждений Державина). В русском, как и во многих других языках, наблюдается диссимиляция плавных при слишком тесном их соседстве: один из этих звуков заменяется в этих случаях другим; «фебруарий» стал «февралем», «секретарь» — в простонародных говорах — «секлетарем», «пилюли» превратились в «пирюли»; но «Фалалей» Фаралеем не стал, в подобие тому, как «Порфи- рий» стал «Перфилом»: имя это показалось выразительно забавным, стало нарицательным в сельском обиходе, сквозь насмешливую кличку образовало и насмешливый глагол, — то есть подхвачено было речью скорее поэтической, чем утилитарной, и приобретя новое это качество, укрепило его за собой в крестьянском языке. Скопление одинаковых плавных затрудняет и произношение и восприятие произнесенного, с чем практическая речь путем их расподобления и борется, а язык возводит в правило ее победы.
Поэтическому языку, по словам Якубинского, бояться замедлений темпа, нарушений автоматизма речи, или усиленного внимания к ее звукам, оснований нет; вследствие чего в этом языке, и особенно в стихотворной разновидности его, диссимиляция и не имеет места; в нем скопление плавных может приобретать и положительное значение. Со всем этим легко согласиться, но не без поправок и дополнений. Прежде всего, нет в той же мере особого поэтического языка, в какой есть особый, сравнительно с другими языками, русский язык. Подтверждается это, не покидая нашего предмета, уже тем, что «февраль» не становится у поэтов «феврарем», то есть диссимиляции общего языка поэтическим не отменяются. Поэтический язык есть только результат речевой деятельности многих поколений поэтов, и для них покорно следовать его (далеко не во всех деталях и разработанным) нормам даже небезопасно и, во всяком случае, менее обязательно, чем грамотно писать по–русски. Существует в первую очередь не он, а поэтическая речь, и звуковая ткань ее имеет конечно и другое и гораздо большее значение, чем звуковой состав всяких других речей, который тоже незаменим, но в другом смысле и по другим причинам. Отдельные языковые звуки, фонемы, выполняют в любой речи условно–различительную функцию, в результате чего мы не смешиваем по звуку и по прикрепленному к нему смыслу слово «иль» («или») и слово «ил». В принципе, слова эти могли бы обменяться значениями или качествами своей согласной. Поэт, однако, не признает такого принципа; звуковые различия мотивированы для него не одной лишь необходимостью различенья; илу надлежит называться илом… Нет, я не случайно выбрач этот пример: он возвращает нас к любезной нашему сердцу «плавной».
Поэт не то чтобы раскрывал свои объятия любому скоплению плавных (чего ему не разрешил бы уже просто–напросто его язык); он не то чтобы затрудненность или медленность речи, или звуки ее ради них самих лелеял; для него эти звуки имеют еще и другой, более музыкальный, чем словесный, хоть и не оторванный от словесного, смысл. Дифференциальное их значение, для языка достаточное, он, конечно, принимает, но дифференцирует их еще и по–своему, никаких других звуков, кроме фонем своего языка, не применяя, но применяя эти фонемы сообразно с их евфоническими, какофоническими, изобразительными и выразительными возможностями, ничего не имеющими общего с той различительной (но не характеризующей) функцией, которая принадлежит им в языке. Возможности эти для каждой фонемы различны; различны, хоть и в меньшей мере, для родственных одна другой фонем (гортанных, например, или губных); различны — чего теоретики не хотят замечать— и для «той же» согласной, но твердой и мягкой, или закрытого е и открытого (по–русски обозначаемого через э). Различие тут, хоть и несколько другое, но не меньшее, чем между твердой звонкой губной и твердой губной глухой. Якубинский приводит стихотворные примеры скопления одинаковых плавных, но не учитывает ни степени их одинаковости, ни тщательности различения (пусть и не осознанного) между скоплением р и скоплением л, хотя сам же это различение и подчеркивает в своих примерах.
Повторы р и л большей частью не в перемешку производятся (как в приведенных мною стихах из «Онегина»), а раздельно, так что в целом стихотворении или в отдельных его частях (если поэт вообще эту музыку избрал) господствует либо одна либо другая из этих плавных. Примеры из Пушкина, подобранные Якубинским, иллюстрируют это хорошо, но он не спрашивает себя ради чего это делается, оттого что поэтическую речь не как речь рассматривает, которой что‑то говорится, а как язык, который, покуда не превратился в речь, ничего не говорит. И не замечает он, что «инструментовка» языковской строчки «Как Волги вал белоголовый» состоит не в повторах любого л, а в повторах твердого л, или, еще точней, в повторах слогов, это эл содержащих, — причем и г, мягкое, потом твердое, известной роли (без различения мягкости и твердости) здесь не лишено. И точно так же, подсчитав, что в пушкинском «Послании в Сибирь» на 7 л приходится 25 р, он пропустил мимо ушей (сэ лё ка дё лё дир, шепчет назойливая Курдюкова), что кроме двух все эти р — твердые, чем особая окраска этому стихотворению и дана; дать ее мягкими р было бы невозможно.