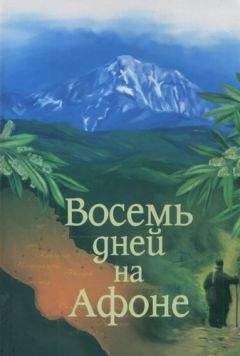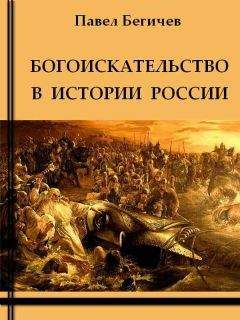— Слушай, — отчего-то шёпотом произнёс я, — мне, кажись, того…
— Чего — того?
— Плохо мне.
— В каком смысле?
— Сахар. Мы тут пока ходили… я не рассчитал… вернее, забыл… короче, мне надо срочно что-нибудь съесть… У тебя шоколадки были.
— Так они в рюкзаке.
— И мои в рюкзаке.
— Что делать? Слушай, давай ты полежи здесь, а я сбегаю принесу.
Перспектива остаться одному испугала меня ещё больше, чем приступ гипогликемии[56]. Но благородство и решительность я оценил.
— Идти надо, — сказал я. — Давай только вместе «Богородицу» петь будем.
И мы запели, а минут через десять вышли на большую асфальтовую дорогу, а ещё через пять были в своей келье в Кутлумуше.
6
Я сразу съел кусочек шоколадки, Алексей Иванович хотел было заварить кофе, но не нашли розетку, да и молебен должен был вот-вот начаться.
Послышались звуки деревянного била, и мы спустились к храму. Немного удивила пустота храма — людей было мало, и в то же время полнота его — храм был пронизан светом. Может, так поразил свет, что мы не были на службе днём?
Красный снаружи, изнутри храм отливал пепельным цветом, и этот благородный оттенок подчёркивал его древность, мудрость и вечность. Начался молебен. Я, наверное, поступил неправильно: вместо того чтобы воздавать хвалу и честь Богородице, достал записки и, благо было светло, стал поминать заповедовавших молиться о них. И так хорошо ложилось греческое чтение акафиста на мои записки, что я, если и чувствовал вину перед Богородицей, то извинительную — так хотелось, чтобы люди, близкие, дальние, совсем незнакомые, оставшиеся в России, хоть так, через меня, грешного, присутствовали здесь, на службе.
Я закончил читать, а служба ещё длилась, мерно и благодарно, и казалось, что этой мерности и благодарности не будет конца, что голоса — это часть пепельных стен, солнечных лучей, тихих ликов — всё вечность. Как хорошо и светло пребывать в этой вечности…
Неожиданно голоса остановились. На середину храма вынесли длинный, похожий на обеденный, стол, покрытый красной материей (представьте: солнечные лучи, пересекающиеся в тихом пространстве, пепельное окружение стен и красная ткань посередине). Из алтаря стали выносить ковчежцы и ставить на стол. Ко всей великолепной картине добавилось блистающее в солнечных лучах золото ковчежцев.
Появились люди. Вроде никого не видно было, а тут к столу выстроилась небольшая очередь. За монахами стояло несколько мирян. Неужели и нам можно?
Кто-то легонько подтолкнул сзади. Я оглянулся — это был Серафим. Он глазами показывал — туда, туда идите.
И вот такое же неспешное, как служба, движение к святыням. Возле каждой можно было опуститься на колени, никто не торопил, но и самому было неудобно задерживать остальных. Поклон, целование, шаг дальше…
Унесли в алтарь ковчежцы — и в храме сразу потускнело. Убрали материю, стол…
— Пойдём, — сказал Алексей Иванович.
Господи, да неужели всё?!
7
В келье сразу отыскалась розетка. Кровать слегка отодвинули — и вот, пожалуйста. Мы это восприняли как добрый знак, я сходил за водой, и Алексей Иванович запустил кипятильник. Скоро по келье потёк аромат кофе. И вот уже первый горячий глоток… с кусочком шоколадки…
За этим делом и застал нас Серафим и опять смутился. Вид у нас всё-таки был, наверное, больше туристический. Без всякого благословения распиваем ещё кофе, который мы, конечно, тут же монаху и предложили, отчего тот смутился ещё больше и отказался. Впрочем, наш восторженный рассказ о походе к каливе Паисия, видимо, показал, что мы не так уж и безнадёжны, и он повернул к нам лицом то, что держал в руках (мы, занятые кофе и собственными впечатлениями, не обратили внимания, что он что-то принёс). Это были чудесные иконы Божией Матери. Серафим пояснил, что он их только что закончил.
Теперь мы растерялись, не зная, куда пристроить щедрый подарок: на столик с недопитыми чашками кофе — не хотелось, и каждый положил икону у изголовья кровати.
А ещё Серафим дал нам чётки. Небольшие, чёрные и, что мне особенно понравилось, не с деревянными или каменными зёрнышками, а матерчатыми, совершенно бесшумными узелками.
Конечно, это интеллигенты придумали: жить надо так, чтобы не мешать окружающим (вместо того, чтобы поступать с другими так, как хотелось, чтобы поступали с тобой[57]), и я так хотел бы не раздражать окружающих чётками… именно о таких — тихих — мне и мечталось.
Сам я не мог позволить себе купить чётки (хотя их сейчас можно купить почти в любом храме), для меня это равносильно, как если бы я купил на базаре орден Красной Звезды. Чётки надо заслужить… Неужели — аксиос[58]?!
А монах уже отступал к двери, объясняя Алексею Ивановичу что-то на установившемся меж ними бумажно-речевом языке.
— Подарок! — вспомнил Алексей Иванович и бросился к рюкзаку. Он так хорошо упаковался, что рюкзак пришлось выпотрошить почти весь. Достав книгу (это был большой альбом по иконописи), он протянул её монаху: — Вот. Это вам отец Геннадий просил передать.
Монах принял альбом и некоторое время любовался им, словно ему дали его только подержать.
— Вам, вам, — подтолкнул альбом Алексей Иванович.
Монах, видимо, не верил. Алексей Иванович схватил бумажку, черканул что-то и положил поверх альбома.
Монах ещё некоторое время держал подарок на вытянутых руках, потом прижал его к себе и поклонился.
Неловко стало за этот поклон, хотя монах, может, и не нам кланялся, а далёкой России, и Алексей Иванович засуетился:
— Пакет под альбом надо, что тут у нас, ах, да — вот же! — и он протянул монаху пакет, где у него лежали пузырьки с настойкой боярышника.
Монах крепче прижал к себе альбом и покачал головой.
— Это лекарство, лекарство, — Алексей Иванович достал пузырёк, настойчиво тряс им перед монахом. — Надо по чуть-чуть, по капелькам….
— Я-то сам не пью, — обрёл вдруг дар речи потрясённый монах, но, поняв по лицу, что тот пытается подарить что-то особо ценное, возможно, даже более ценное, чем альбом, утешил дарителя: — Спасибо, будет что архиерею подарить.
«Мама дорогая», — обмер я, представив себе архиерея, отвинчивающего крышечку с настойки боярышника.
Монах заторопился, видимо, опасаясь, как бы ещё чем-нибудь не загрузили.
— Давай быстро допивай кофе, — сказал Алексей Иванович, когда дверь за Серафимом закрылась, — он приглашает нас в комнату для свиданий, — и, смутившись неудачной терминологией, поправился: — В смысле, для бесед.
Быстро пить кофе, даже если он подостывший, — глумление над продуктом. А это не по-православному. Примерно так я пытался объяснить Алексею Ивановичу, и тут за дверью послышалось:
— Молитвами святых отец наших…
— Войдите! — поспешил ответить Алексей Иванович.
Вошёл Серафим, я допил кофе и стал помогать Алексею Ивановичу укладывать рюкзак. Без книг теперь никак не получалось — всё оставались какие-то пустоты.
— Какая большая книга, — указал на лежащую на кровати книгу «Евлогите» Серафим.
— Это наш путеводитель, — объяснил Алексей Иванович и протянул монаху. Достал он её, кстати, первый раз с тех пор, как в архондарике Андреевского скита пытался выучить греческий.
Серафим полистал книгу.
— Какие интересные гравюры, — задержал ещё в руках и вернул обратно. — Пойдёмте.
Он повёл по террасе в другой конец братского корпуса, распахнул одну из дверей, и мы оказались в большой зале, как раз, видимо, предназначенной для бесед: стояло несколько беленьких аккуратных овальных столиков, вокруг них такие же беленькие изящные стулья. Нельзя сказать, что комната утопала в коврах, их было немного, но их неожиданная пестрота придавала комнате мягкость и уют. Всё располагало к тихой и мирной беседе. Единственное, что смущало, — кроме нас в комнате никого не было. Получалось, что остальные монахи либо молятся по кельям, либо несут послушание, либо отдыхают. И только мы нарушаем ритм, да ещё и Серафима втягиваем.
Я деятельного участия в беседе не принимал. Алексей Иванович сначала писал в блокноте, потом громко и по складам повторял написанное вслух, причём, скорее всего, для себя, потому что тут же что-то зачёркивал, переправлял и протягивал блокнот монаху. Серафим никогда не отвечал сразу. Говорил тихо, словно пробовал каждое слово на вкус, и смотрел на того, кому говорил, — понимают ли его? Сначала Алексей Иванович передал поклоны от духовного отца, рассказал об известных городских храмах. Выяснилось, что они с Серафимом ходили в один храм и, более того, жили на соседних улицах. Беседа пошла оживлённее. Хотя показалось, что монах немного испугался. Алексей Иванович вдохновенно переписывал в свой блокнотик последние городские новости, и когда переворачивал очередной листок, монах попросил: а нельзя ли ему написать небольшое письмецо, там остались у него сестра с тёткой, от которых давно уже не было писем, а Алексей Иванович передал бы? Алексей Иванович аж подпрыгнул от радости — наконец-то нашлось, чем он может послужить Серафиму и хоть как-то отблагодарить. А когда Серафим написал адрес, Алексей Иванович и вовсе зашёлся от счастья: