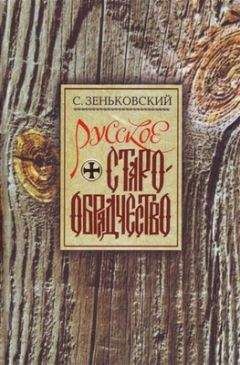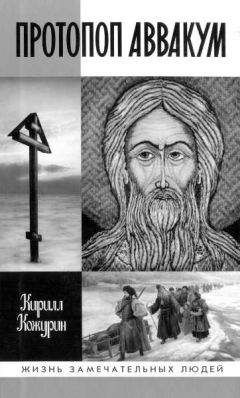Боголюбцы, как и все русские церковные люди того времени, не считали возможным изменение или сокращение текста литургии и по чисто мистическим соображениям. Церковь во время литургии, когда происходила Евхаристия, причастие православных людей Богу, соединение причащающихся христиан с Господом, считалась ими, как об этом еще в начале XV века говорил св. Кирилл Белозерский, за временное осуществление Царства Божия на земле[27]. Сами каноны, слова литургических молитв, церковные песнопения, подготовлявшие это соединение верующих с Богом и осуществлявшие это временное Царство Божие на земле, в свою очередь, представлялись русским как бы вехами на пути в это Царство Божие, мистическими символами пути его достижения. Прекрасно написал об этом А. Карташев, говоря, что само вечное Царство Божие считалось православными людьми того времени непрерывной, прекрасной литургией во вселенском боголепном и прекрасном храме, во время которой благочестивые души вечно и благоговейно общаются с Господом[28]. По всей вероятности, в идеальной перспективе будущего боголюбцы мечтали и ожидали, что вся Россия, весь русский народ будет благоговейно предстоять перед великой тайной преосуществления святых даров, и когда вся страна со всей силой веры сознательно причастится телу Христову, то тогда именно и начнется осуществление вечного Царства Божия на православной земле, в Третьем и Последнем Риме.
“Покоримся божественным уставом”, — писал друг Неронова, справщик Печатного двора Ш. Мартемьянов, настаивая на введении единогласия:
Единогласие и благочиние воистину и есть красота церковная: умиление, души плачь и слезы, и стонание сердечное, и память смертная [воспоминания о смерти], и вся благая церкви во время божественного пения [литургии] душой [вы] приплодите[29].
Эта тема красоты церковной, постоянно повторяемая и Мартемьяновым, и Нероновым, и Аввакумом, и Ртищевым, и самим царем, господствовала над церковным мышлением Московской Руси. Но эта красота церковная не являлась красотой архитектуры храма, облачения или исполнения песнопений, но внутренней красотой, гармонией общения верующей души с Богом, гармонией, требовавшей соответствия мыслей, жизни, дела и слова с Божественным словом, с истиной христианства. В поисках вечной красоты общения с Господом Богом боголюбцы искали прежде всего внутреннюю “лепоту”, красоту и гармонию в церкви, соответствие смысла литургии с мыслями молящихся.
Понятие красоты, или “лепоты”, как говорили боголюбцы, было искони присуще русской религиозной мысли, и недаром послы Владимира Святого убедили его принять православие, указывая на красоту византийской литургии, во время которой они чувствовали себя не на земле, а в небесах[30].
Понятие вечной богословской “лепоты” — красоты и гармонии религиозной жизни и общения с Богом, о которой говорят Неронов, Алексей Михайлович и их друзья–боголюбцы, развилось уже позднее, в Московской Руси, по всей вероятности под влиянием христианского толкования пути возвышения души к Богу, о котором так настойчиво писал тот же самый Максим Грек, которого Неронов вместе с Дионисием читал в годы своего пребывания в Троице–Сергиевой лавре.
Очищение познания и ума приводит к познанию красоты…[31] Каждый из нас должен себе сказать: я — подобие Божие и должен искать, как открыть, как достигнуть первоначальной красоты…[32] Всей душой будем стремиться к красoтe, подобной Богу[33], — указывал Максим.
Но, по мнению Максима, эта красота — вовсе не внешняя физическая красота, которая всегда бывает только временной и преходящей и иногда даже мешает достижению подлинной красоты, но настоящая вечная красота, красота соединения человека с Творцом, достижения человеком того подобия Божия, которое было вложено в нас при нашем создании[34]. В зтом понятии красоты как высшего достижения религиозного развития человека Максим Грек по своим платоновским подходом к путям искания и нахождения Творца был близок к ранним православным богословам — Псевдо–Дионисию Ареопагиту, Симеону Новому Богослову и даже Григорию Паламе, произведения которых давно уже читались на Руси и которые оказали большое влияние на развитие русской религиозной жизни и религиозного мышления. Например, развитие русской иконы, которую князь Е. Трубецкой называет “умозрением в красках”, находилось под сильным влиянием идей Дионисия Ареопагита, и величайший русский иконописец Рублев вкладывал в свои произведения его богословскую символику; также находилось под влиянием Дионисия и толкование Троицы у Иосифа Волоцкого. Поэтому почва для восприятия идей Максима Грека была вполне подготовлена на Руси, и русское церковное возрождение XVII века, во всяком случае в наиболее значительной части его, представленной боголюбцами, проходит под символом гармонии религиозного развития. Эта идея вечной красоты сосредоточена в красоте лицезрения и общения с Творцом, причем в понимании боголюбцев это общение прежде всего достигалось во время литургического таинства. Поэтому тема возрождения церковной службы, во время которой по словам Неронова, “заклается незлобливый Владыка за мирской живот и спасение и раздробляется всем верным, иже есть литоргия страшных таин”[35], и была центральной темой той церковной работы возрождения, проводимой протопопами–боголюбцами. По их мнению, литургия не только должна была перевоспитать русский народ, но поднять его на высоту “подобия Божия”, мистически подготовить к встрече с Творцом, сделать его подлинно достойным встречи того царства Святого Духа, осуществления которого они ожидали и надеялись, как обещала легенда о Белом Клобуке, что оно будет осуществлено на русской земле, земле последнего православного царства.
Чтение эсхатологических произведений — “Кирилловой книги”, “Поучений Ефрема Сирина”, “Книга о вере” еще больше заостряло их чувство ответственности перед русским народом, перед историей, перед Богом за все человечество, так как именно русской земле и русской церкви сам Господь, по их мнению, поручил сохранить христианство.
Трудности православия в Польше и на Ближнем Востоке как бы подтверждали предсказания, усиливали эсхатологические ожидания и еще больше укрепляли их религиозное напряжение, их борьбу за веру, их убеждение, что именно они должны спасти христианство, помочь окончательному торжеству его на Руси. Недаром тот же справщик Печатного двора Шестак Мартемьянов, друг Наседки и Неронова, пишет в своем трактате об единогласии: не мы ли Израиль истинный, люди христианские?[36]
Примечания
[25] Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. Т. III. С. 94, 119—120, 138, 194; Т. II. С. 100.
[26] Aввакум. Сочинения… С. 854—855.
[27] Послание св. Кирилла Белозерского к кн. Дмитрию Можайскому // АИ. Т. I. № 16; Смирнов С. И. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта. М., 1914. С. 148—148.
[28] Карташев А. В. Смысл старообрядчества.
[29] ПДПИ. Т. CLV. С. 65, 74.
[30] Повесть временных лет. М. —Л., 1950. Т. I. С. 75.
[31] Максим Грек. Соч. Т. III. С. 313.
[32] Там же. Т. II. С. 5.
[33] Там же. Т. III. С. 213.
[34] Там же. Т. II. С. 164 (Диалоги души).
[35] Челобитная нижегородских протопопов // ЧОИДР. 1902. Т. II. С. 1—32.
[36] Деяния собора 1649 г. С. 49—50.
11 Собор 1649 года и столкновение с епископатом
Собор, от которого боголюбцы ожидали введения единогласия и начала полного литургического обновления России, собрался в 1649 году. В это время епископат состоял из лиц, назначенных на епархии еще до того, как боголюбцы успела захватить решающее влияние в делах церкви, и почти весь состав его, кроме митрополита Никона Новгородского (будущего патриарха), был настроен против предложения Вонифатьева, Неронова и их друзей. Состав собора был тщательно подобран иерархией, и никто из друзей боголюбцев официально в нем не участвовал. Тем не менее Вонифатьев сам решил явиться на собор, представительствуя чаяния и интересы своих друзей. Но Вонифатъев, видимо, не рассчитал силу сопротивления епископата и церковных чиновников канцелярий, связанных с управлением русской церковью. Этим противникам боголюбцев удалось склонить на свою сторону престарелого патриарха, который долго колебался между явной необходимостью устранить многогласие и трудностью введения единогласия. Он, конечно, помнил, что еще Стоглавый собор строго предписывал единогласие и что он сам всего лишь за год до собора, в 1648 году, порицал монахов Саввина монастыря за то, что они “поют по скору и не единогласно”. Теперь аппарату церкви и епископату, которые рассматривали боголюбцев как мятежников против их авторитета, привычек и злоупотреблений, представлялась возможность раз и навсегда отвергнуть пожелания и требования дерзких протопопов. Давно уж многие епископы и чиновники их канцелярий возмущались протопопами, которые хотели распоряжаться русской церковью через их головы, и поэтому заправилы собора хотели использовать раздражение патриарха на “дерзость” боголюбцев.