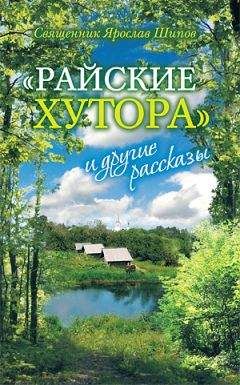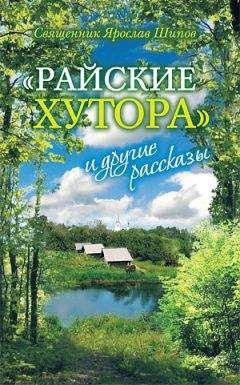— Так-то оно так, только в консерватории после концертов ни шприцы, ни окурки на полу не валяются, да и нужду под себя там никто не справляет. Мне утром встретились соседи из Василия Блаженного — тащили от храма два мешка мусора.
— К ним на территорию во время концертов вроде не пускают.
— Что с того? Поклонники «новой культуры» могут и через ограду перебросить.
Приходит диакон, несет со свечного ящика записки:
— Ну, такого я еще не видал: «О здравии администрации президента» и «О упокоении новопреставленных Фуфунчика и Бизона». Зашел, говорят, прилично одетый человек, написал эти записки, а на ящике заупокойную не принимают — требуют святые имена. А он свое: «Бизон и Фуфунчик — святее быть не может. Правильные, мол, пацаны, но позавчера их застрелили». Отвалил денег и уехал на машине с мигалкой. Похоже, рядом работает — сосед.
Кто-то хочет переговорить с батюшкой. Отец Гавриил выходит: пожилой мужчина просит поменять крестных родителей своего сына.
— Это невозможно, — отвечает отец Гавриил, — а в чем, собственно, дело?
— Колян — крестный отец — завязал, а Надежда — мать крестная — совсем спилась: рюмку хлопнет и под стол валится, так что пить с ними невозможно. Лучше уж Валерку и Катерину.
Батюшка какое-то время втолковывает горемыке насчет восприемников, но тут появляются молодые священники, настоятель, и отец Гавриил возвращается в алтарь: приходит время Божественной литургии.
В ранней молодости отец Тимофей работал печатником: центральные газеты печатал. И вот как-то появляется под потолком ротационного цеха растяжка: «Увеличим производство на три процента». В честь очередной годовщины социалистической революции. Тимофей спрашивает начальника цеха, как мы можем увеличить производство на три процента, если тираж изданий строго ограничен и всякий перерасход бумаги приводит к взысканиям и денежным вычетам. Начальник цеха махнул рукой: мол, отстань.
Через неделю добавляется новый призыв: «Увеличим на четыре процента» по поводу съезда не то партии, не то профсоюзов. Тимофей снова спрашивает, а ему снова: отстань.
Однако третье воззвание, появившееся в связи с юбилеем союза молодежи, привело молодого человека в полное недоумение: добавилось еще три процента, и выходило, что в сумме надо было перевыполнить план аж на десятину. Он растерялся: куда выбрасывать тонны лишних газет?
Ему объяснили, что выбрасывать ничего не придется и ни одной лишней газеты никто не напечатает но поддерживать «передовые почины» надо: глядишь выиграем «социалистическое соревнование» и получим вымпел. Чистой воды лицемерие и фарисейство. То, что, по мнению отца Тимофея, со временем и развалило социалистическую державу Однако молодой печатник отказывался понимать общепризнанный политес.
Впоследствии, учась в семинарии, Тимофей познакомился с жизнеописанием Ростовского митрополита Арсения, известного дерзкими выступлениями против императрицы Екатерины, разорявшей монастыри, и очень полюбил этого необыкновенного Владыку. Кстати говоря, для Тимоши отыскалась и своя Екатерина — секретарь комсомольской организации Катька, устроившая собрание.
Наборщица Катька собиралась вступать в партию. И все у нее для этого было: женщина, рабочий класс, из комсомола — прямейший путь без затруднений. Но ей хотелось чего-нибудь возвышенного, громкого, хотелось идеологических достижений. Вот и взялась она за Тимофея. Дескать, был порядочным человеком: организовал клуб туристов и водил молодежь в походы; возглавил эстрадный оркестр, под который проходили все праздники, и сам прекрасно играл на аккордеоне, особенно песни военных лет, — а потом вдруг опустился до предательства. Обличала, обличала его с трибуны, и все очень высоким штилем: насчет морали, идейности, а он, сидя в каком-то ряду, слушал. Потом призвала его встать и спросила:
— Ты что, против линии Центрального комитета нашей организации?
Парень пожал плечами:
— Ну а если эта линия — полная глупость?
И Катька сорвалась на визг:
— Комсомольский билет на стол!
Билета у Тимофея при себе не было, и он молчал, не понимая, что надо делать.
— На стол! — еще раз взвизгнула Катька, глаза ее победно блистали.
И тут в наступившей тишине из глубины зала вылетело:
— Ты, что ль, ему этот билет давала?
Все обернулись: в дверях стояли несколько чумазых печатников совсем не комсомольского возраста. Собрание было открытым, и они пришли поддержать своего. И вот единственная в этом мужском цеху работница возразила комсоргу. Катька в ответ переспросила:
— А что, ты, что ли, давала? — И это было неосторожно с ее стороны: русский язык, как известно, безгранично щедр на двусмысленности.
Работница вновь:
— А ты давала?
Зал содрогнулся. Это был не хохот, это были рыдания. Причем как только они затихали, слышались все те же встречные вопросы двух типографских тружениц, и рыдания снова охватывали зал. Тимофей стоял посредине и, поворачиваясь то к одной, то к другой, Ждал, чем дело кончится. Народ, исплакавший от смеха все слезы, стал расходиться.
С Катькой случилось то, что случилось бы с полководцем, который, призывая воинов к смертной битве, выехал перед ними на белом коне, указал саблей в сторону неприятеля и вдруг неуклюже свалился бы в грязь.
И хотя собрание завершилось пустым весельем в протокол было вписано «единодушное осуждение» с передачей личного дела в райком.
Однако через несколько дней, как раз во время Тимошкиной смены, на первых полосах всех газет появилось сообщение об освобождении от должности первого секретаря того самого Центрального комитета, с линией которого Тимофей был не согласен. Печатники хлопали его по плечу, Катька заискивала и шептала: «Ну, если у тебя наверху свои люди и ты все знал заранее, предупредил бы, чтобы не выставлять меня в неприглядном свете». Но никаких связей у Тимошки не было — он вообще воспитывался в детском доме.
Директор издательства пригласил к себе в кабинет, где у него гостил приятель, космонавт. Рассказал о Тимошкиной принципиальности, и космонавт, слегка нагрузившийся коньяком, одобрил:
— Такие люди партии очень нужны — они как прозрачные ручейки, вливающиеся в мутный поток. Я прямо сейчас готов дать рекомендацию.
— Слабый из меня ручеек, — вздохнул Тимофей и попросил отпустить его — надо было работать.
— Твое здоровье, — сказал космонавт, поднимая фужер.
С этого времени Тимошка стал неудержимо стремиться поближе к сущности бытия, чтобы, значит, без фарисейства.
Так, собственно, он и стал отцом Тимофеем.
Довелось как-то заночевать у сельского батюшки — спросил дом священника, мне посоветовал и идти на кладбище: «Там он и живет».
Отыскал кладбище: слева за воротами церковь, справа — домишко похилившийся. Только постучался — зажегся свет, словно меня тут ждали.
Хозяин — тщедушный старичок с седой бороденкой — встретил приветливо, почти радостно. Похоже, он сильно истосковался по общению: «Как хорошо, что приехали, главное — вовремя, а то я собрался с утра в лавру податься». Вскипятили чаю и под чаепитие познакомились. Звали его отец Севастиан. Когда-то он был женат: «Давно, в дьяконах еще, но недолго», а овдовев, принял постриг и с тех пор монашествовал. Я в ответ рассказал ему о некоторых новостях столичной жизни; он повздыхал, сожалеюще покачал головой и добавил к нашему разговору одну приходскую историйку.
Началась она сразу после войны. Возвращался через это село солдатик. Мужики тогда, известное дело, были в необычайной цене — для примера отец Севастиан сообщил, что от тутошнего лесника, которого по причине преклонения возраста на фронт не взяли, шестеро баб народили детишек. «Что ж поделаешь? — объяснял отец Севастиан. — Население продолжать надобно? Надобно! А мужского полу, кроме лесника, никого нет. Вот они и постановили: мол, будем ходить к тебе, а ты выручай, а то вдруг все мужики на войне сгинут — что же тогда, народу совсем прекратиться?.. В открытую постановили — их мужья к той поре уже сгинули… Он сопротивлялся поначалу — совестливый был мужичок, я еще застал его, правда, совсем уж дряхленького, — но потом вошел в понимание…»
Такая вот была жизнь. И вдруг: солдатик, молоденький, при руках и ногах, — заглядение! Бросились на него бабы и девки, а он что — его дело солдатское. Короче говоря, побрел воин дальше, а спустя некоторое время одна юная барышня почувствовала, что «под сердцем у нее бьется еще одно», — слова отца Севастиана. Испугалась красавица — больно лют у нее родитель был: с фронта вернулся перекалеченным, пил, злобствовал — по пьянке вполне убить мог. Да в конце концов и убил — правда, не дочь, а случайного человека, в тюрьме и помер.