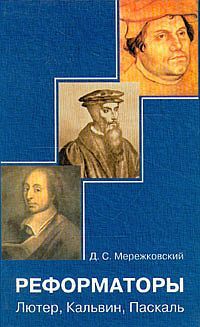К Сыну Божию — Брату Человеческому — никто не подходил ближе Кальвина. Но вот подошел, заглянул в лицо Его, и прошел мимо — мимо Сына к Отцу. Этого он, конечно, сам не знает и, если бы это сказали ему, — не поверил бы, а если бы поверил, то сошел бы с ума или умер бы от ужаса.
В этом — нездешний, нечеловеческий, сверхъестественный, чудовищный грех Кальвина. Но, может быть, этот грех не вменится ему, потому что не он сам его совершил, а Кто-то — за него; не он сам пожертвовал собой, а Кто-то пожертвовал им для будущего, всемирно-исторического действия Трех.
44
В 1559 году, в Сочельник, Кальвин, проповедуя в переполненном соборе Св. Петра, должен был сильно напрягать голос, чтобы все могли его слышать. На следующий день, только что он сел обедать, сделался у него такой припадок кашля с кровохарканьем, что он должен был встать из-за стола. Раза три пытался возвращаться к нему, но кашель возобновлялся с большей силой, так что он вынужден был, наконец, лечь в постель. Позвали врача, и тот, осмотрев больного, сказал, что это чахотка.[452]
Вместе с этой болезнью возобновились и все прежние с новою силой: перемежающаяся лихорадка, кровавый понос, почечуй, камни в почках, камни в печени и такие головные боли, что он почти лишался чувств.[453]
Радоваться могли бы мщению все в женевских застенках запытанные: разнообразные муки терзали его, как раскаленные клещи, иглы, тиски и другие бесчисленные орудия пытки. Но если бы ему сказали, что все эти муки посланы ему для того, чтобы он покаялся в муках, причиненных другим, то он, вероятно, не понял бы и почувствовал себя невиннее, чем когда-либо.
В минуты крайних мук он подымал глаза к небу и, как будто с недоумением, спрашивал: «Доколе же, Господи? (Usque quo, Domine?)»[454]
Может быть, надо ему было пройти сквозь какой-то нездешний очистительный огонь страданий и, чтобы подойти к тому огню, надо было пройти сквозь этот.
Как искусный палач наблюдает за пытаемой жертвой, чтобы не слишком скоро умерла и чтобы мука продлилась, так и болезни, терзавшие Кальвина: только что пытки достигали крайней степени, и он уже начинал надеяться, что смерть его избавит от них, как болезни давали ему отдохнуть перед новою, злейшею пыткою. Так суждено ему было промучиться пять страшных лет.
Только что ему становилось полегче, он снова начинал проповедовать, читать лекции, заседать в Советах, принимать посетителей со всех концов мира и, «ползком перебираясь с постели к рабочему столу», писал бесчисленные письма и новые книги. А когда сам уже не мог идти в Церковь, приказывал нести себя туда на кресле, потому что «хотел исполнить работу Господа до последнего вздоха».[455]
В 1560 году усилилось гонение на гугенотов во Франции. Всюду пылали костры, и мученики всходили на них несметными толпами. Но мученик величайший был Кальвин. Лежа в постели, он диктовал чуть слышным голосом утешительные письма к идущим на смерть. Но чувство стыда, что «нет у него для них ничего, кроме слов», росло в нем бесконечно.
5 декабря Франциск Первый умер.[456] Это была последняя земная радость Кальвина.
6 февраля 1564 года он произнес последнюю речь в общем Народном Собрании для выбора новых Синдиков. 6 марта в последний раз проповедовал в соборе Св. Петра, а 10-го принял у себя на дому нескольких городских и сельских проповедников. «Долго сидел в кресле молча, облокотившись привычным движением о стол, опустив голову на руку и закрыв глаза; потом приподнял кротким светом озаренное лицо и сказал тихим голосом, что надеется еще раз видеть их, недели через две. „Это будет наше последнее свидание, потому что я чувствую, что скоро Господь отзовет меня к Себе…“»
В тот же день постановлено в Малом Совете, «чтобы весь женевский народ молился о здравии мэтра Кальвина и чтобы через брата его, Антуана, выдано ему было пособие в двадцать пять солнечных флоринов». Но хитрость не удалась: Кальвин, узнав о пособии, отказался от него, потому что «не заслужил его ничем».[457]
24 марта, в обычный день открытого взаимного суда — «Цензуры» — все женевские проповедники собрались в комнате больного. Он, как предсказал, чувствовал себя гораздо лучше.
Первого «судили» его, перечисляя все его грехи, явные и тайные: «гнев, упрямство, жестокость, гордыню». Он слушал молча, смиренно, сложив руки на груди, низко опустив голову, и ответил, что «удивляется благости Божией, избравшей такое недостойное орудие, как он». Потом и сам начал судить братьев, говоря каждому, по очереди, в лицо всю правду и обличая такие тайные раны совести, что им казалось, что не человеческому суду предстоят они, а Божьему. Хриплым, задыхающимся голосом, который часто прерывался кашлем, он говорил около двух с половиной часов и не только не чувствовал усталости, но ему даже сделалось лучше, и он объявил братьям, что «Господь продлит ему жизнь до следующего с ними свидания». Потом, начав говорить о некоторых темных словах Нового Завета, велел принести бумаги свои, долго вычитывал из них отрывки истолкования и спрашивал, что думают братья. Все они видели, что «он так побледнел, что боялись, как бы не лишился чувств; но видели также, что эта беседа так сладостна ему, что не смели ее прервать». На следующий день ему сделалось хуже, и снова началось кровохарканье.[458]
27 марта он велел отнести себя в ратушу, на кресле, но сошел с него внизу у лестницы, поддержанный двумя друзьями, поднялся по ней и вошел в палату Совета, где, «стоя и сняв шляпу, благодарил высокочтимых Сеньоров за все оказанные ему благодеяния, особенно за всю доброту их, во время его последней болезни».
«Потому что я чувствую, — кончил он, — что в последний раз имею честь говорить с вами…»
«Он едва был в силах выговорить эти слова; голос его прерывался; он сам плакал, и плакали все»
45
2 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, он был так слаб, что едва мог говорить, но все-таки велел отнести себя в собор, где выслушал проповедь, причастился и дрожащим голосом, вместе со всем народом, запел:
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое (Лука, 2:29–30).
«И такое сияние озарило лицо его, что весь народ был потрясен», — вспоминает Бэза, который сам и причащал его.[459]
25 апреля Кальвин продиктовал завещание: «Я, Жан Кальвин, Слова Божия слуга в Церкви Женевской… благодарю Бога моего за то, что Он не только был милостив ко мне, жалкой твари своей, но и дал мне силу Ему послужить. Верую и исповедаю, что умираю с единственной надеждой на Его свободное избрание… Свидетельствую также, что, по мере Им дарованных мне сил, я учил Слову Его во всей чистоте и боролся с врагами его, как только мог. Но воля и ревность моя были так слабы, что я чувствую себя виноватым во всем, и если бы не благость Его, то все, что я сделал, рассеялось бы, как дым…»
Следовали статьи завещания, по которым скудное имущество его, около двухсот флоринов, разделялось между родными его и бедными изганниками из Франции.[460]
«Милостивые Сеньоры мои, я давно уже хотел говорить с вами, но не спешил, потому что никогда еще Господь не давал мне так ясно почувствовать близость конца моего, как сейчас. Я не могу достаточно вас благодарить за всю вашу дружбу ко мне, особенно же за то несказанное терпение, с каким вы переносили все мои бесчисленные пороки и немощи. Правда, должен был я, много претерпевая, бороться, но не по вашей вине, а по Предопределению, потому что Господу угодно испытывать рабов своих в борьбе. Если же я не сделал всего, что должен был сделать, то умоляю вас приписывать это не злой воле моей, а лишь слабости, потому что я могу сказать по совести, что всею душою был предан вашей Республике и, вопреки всем моим ошибкам, все-таки много для нее сделал, так что было бы лицемерием, если бы я не засвидетельствовал, что Господь употреблял меня, чтобы сделать и то, и другое в вашем городе. Но еще раз умоляю простить меня за то, что дела мои так ничтожны по сравнению с тем, что я должен был бы сделать…»
В заключение, торжественно и с такой потрясающей силой, что этого никто из слышавших до конца дней своих не мог забыть, он повторил исповедание всей жизни своей: «Нет на земле власти иной, кроме Бога, Царя царствующих и Господа господствующих!»[461]
На следующий день он пригласил тоже к себе на дом всех женевских проповедников и, сидя на постели, среди подушек, сказал им, как будто с веселой улыбкой: «Братья мои, вам может казаться, что я еще вовсе не так плох, но верьте мне, что, хотя мне и прежде бывало нехорошо, но никогда еще так, как сейчас, потому что я не похож на других больных: чувство и рассудок у тех перед смертью слабеют и мутнеют, а у меня так ясны, что мне иногда кажется, что очень трудно мне будет умирать, потому что, когда уже голос мне изменит, я буду все понимать яснее, чем когда-либо…»