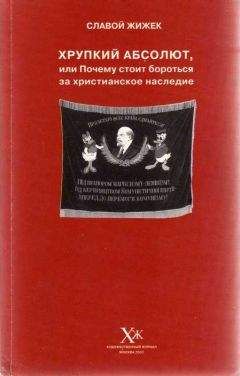Вопреки своей ограниченности, фильм Бениньи все же бесконечно превосходит своего «серьезного» двойника, «Список Шиндлера». В некоторых фильмах, снятых великими европейскими режиссерами, встречаются сцены, представляющие собой предельно претенциозный обман. Например, сцена десятка совокупляющихся пар в красно- желтой пыли долины Смерти из кинофильма Антониони «3абриски пойнт». Подобные сцены идеологичны в худшем смысле слова. Коммерческий кинодвойник такого претенциозного блефа — сцена, вобравшая в себя всю фальшь Спилберга. Впрочем, многие критики превозносили именно эту сцену из «Списка Шиндлера» как самую сильную с точки зрения игры обладателя «Оскара» Ральфа Финнеса. Речь, конечно же, идет о сцене, в которой комендант концентрационного лагеря встречается с одной заключенной, красивой еврейской девушкой. Мы сгущаем его длинный квазитеатральный монолог, пока застывшая в испуге от смертельного ужаса девушка молча смотрит перед собой. Его желание разорвано, ибо, с одной стороны, она его привлекает сексуально. но, с другой стороны, он считает её недостойным объектом любви в силу её еврейского происхождения. Это — яркий пример конфронтации разделенных субъекта и объекта — причины его желания.
Эту сцену обычно описывают как битву между общечеловеческим влечением и расистскими предубеждениями. В конечном счете, ненависть расиста одерживает верх и он прогоняет девушку. Что же такого фальшивого в этой сцене? Напряжение сцены якобы заключается в радикальной несоизмеримости двух субъективных перспектив: то, что ему представляется легким флиртом, маленьким любовным приключением, для нее — вопрос жизни и смерти. Мы видим в девушке до предела запуганное человеческое существо, в то время как он обращается даже не столько непосредственно к ней, сколько к некоему объекту служащему лишь предлогом для его громогласного монолога… Ошибочным же в этой сцене является тот факт, что она представляет (психологически) невозможную позицию высказывания субъекта, т. е. что она передает его расщепленное отношение к запутанной еврейской девушке в качестве его прямого психологического самоощущения. Единственно верный способ, которым можно было бы передать подобное расщепление, это постановка такой сцены (противопоставления еврейской девушке) в духе Брехта, т. е. с актером в роли нацистского злодея, который прямо обращается к публике: «Я, комендант концентрационного лагеря, считаю эту девушку сексуально очень привлекательной; я могу делать со своими заключенными все, что захочу, я могу ее безнаказанно изнасиловать. Однако я обременен расистской идеологией, которая говорит мне, что евреи — грязные и потому не заслуживают моего внимания. Так что я не знаю, какое же решение мне принять…»
Фальшь «Списка Шиндлера», таким образом, та же, что и фальшь тех, кто пытается найти ключ к ужасам нацизма в психологическом портрете Гитлера и других нацистов (или тех. кто анализирует патологию индивидуального развития Сталина, чтобы понять сталинский террор). Несмотря на свой в целом проблематичный тезис о «банальности зла», в одном по крайней мере Ханна Арендт права: если взять Адольфа Эйхманна как психологическое существо, как человека, то мы не найдем в нем ничего ужасного; он — типичный бюрократ, т. с. психологический портрет не даст нам никакого ключа к пониманию тех ужасов, которые он вытворял. В заблуждение вводит и исследование психических травм и колебаний лагерного коменданта, предпринимаемое Спилбергом. Мы сталкиваемся в этом случае с проблемой взаимоотношения социальной и индивидуальной патологии. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, разграничить эти два уровня. Сталинская система действительно функционировала как перверсивная машина, но из этого не следует заключать, что большинство сталинистов было извращенцами. Общее описание структуры политико–идеологического здания сталинизма ничего нам не говорит о психической экономике отдельных сталинистов. которые вполне могли быть извращенцами, истериками, параноиками или страдать навязчивыми состояниями. И хотя нет ничего противозаконного в том, чтобы описывать социальную либидную экономику сталинистского политико–идеологического здания в целом, без доставления индивидуальных психологических портретов сталинистов как первертов, все же нам следует избегать и ловушки, стоящей на социальном уровне в виде дюркгеймовской автономии «объективного Духа», существующего и функционирующего независимо от подчиненных ему индивидов. Предельная реальность не есть пространство между субъективными патологиями и патологией «объективной», вписанной в саму политико–идеологическую систему: такое прямое суждение об этом пространстве оставляет без объяснения то, как субъект принижает эту независимую от его субъективных психических флуктуаций «объективную» систему. Иначе говоря, никогда не следует забывать о том, что различие между «субъективными» патологиями и либидной экономикой «объективной» идеологической системы суть, в конечном счете, нечто присущее субъекту: «объективная» социосимволическая система существует до тех пор, пока субъекты воспринимают ее в качестве таковой. Именно к этой загадке и обращено лакановское понятие Большого Другого. Большой Другой — измерение непсихологических, социальных, символических отношений, воспринимаемых субъектом в качестве таковых. Иначе говоря, это измерение символического института. Когда субъект, скажем, встречается с судьей, он прекрасно понимает, как отличить субъективные особенности этого судьи как человека и тот «объективный» институциональный авторитет, которым он наделен, будучи судьей. Пространство, зазор возникает между моими словами, когда я произношу их как частное лицо, и словами, которые я произношу как лицо, облеченное властью институции, когда эта институция говорит через меня. Лакан в этом вопросе не занимает сторону Дюркгейма: он против любого овеществления институции. Ему хорошо известно, что институция возникает здесь лишь в качестве перформативного эффекта деятельности субъекта. Институция существует только тогда, когда субъекты в нее верят или, точнее, ведут себя так (в их социальном взаимодействии), будто верят в нее. Так что перед нами может быть глобальная перверсивная политико–идеологическая система и индивиды, которые представляют в отношении этой системы истерические, паранойяльные и прочие черты.
Исходя из этого, совершенно понятно, почему в представлении Ханны Арендт о «банальности зла» тезис о безразличии нацистских палачей (которыми двигала не патологическая ненависть, а хладнокровное равнодушие бюрократической эффективности) недостаточен. Ярая ненависть, которую субъекты психологически больше не переживают, переносится (воплощается, материализуется) на «объективную» идеологическую систему, которая узаконивает их деятельность. Они могут позволить себе быть безразличными, поскольку от их лица «ненавидит» сам «объективный» идеологический аппарат. Принципиально важным для понимания того, как функционируют «тоталитарные» системы, оказывается понятие «объективированного» личного переживания, освобождающего субъект от ответственности за переживания и допускающего либидную позицию идеологии, которой он следует. Мы сталкиваемся здесь с феноменом, который строго гомологичен феномену законсервированного в банке смеха. Возникает даже искушение сказать: законсервированной в банке ненависти. Нацистский палач, действующий подобно холодному бюрократу, равнодушный к положению своих жертв, вполне напоминает субъекта, который может поддерживать усталое безразличие к комедии, которую он смотрит, пока идущий из телевизора звук представляет ему смех, смех от его лица (или, в случае марксистского товарного фетишизма, буржуазный индивид может себе позволить быть в его субъективном самоощущении пользователем–рационалистом — фетишизм проявляется в самих товарах) [72]. Ключ же к лакановскому решению проблемы отношений субъективного либидного переживания и либидной экономики, воплощенной в Большом Другом, объективном символическом порядке, в том, что пространство между ними является изначальным и конститутивным: не существует исходного непосредственного переживания себя, которое затем, неким вторым шагом, «овеществлялось» бы, объективировалось в действии символического порядка. Сам субъект возникает в результате смещения его внутреннего самоощущения на «овеществленный» символический порядок. Именно так можно прочитать лакановскую матему субъекта, «перечеркнутого субъекта», S: субъект опустошен тем фактом, что он лишен своего внутреннего фантазматического ядра, перенесенного на «овеществленного» Большого Другого. По этой причине субъект без минимального «овеществленного» символического института просто невозможен.