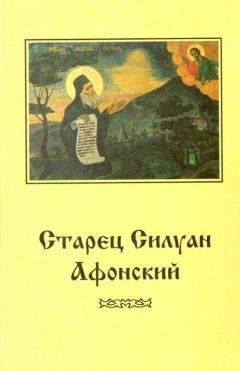«Знай, по этому ответу Франциска, что бывшее тебе видение истинно, ибо вознесен будет смиренный Франциск на престол, с которого низвержен был Люцифер за гордыню!» — слышит брат Пачифико тот же «Глас с неба», а может быть, и не с неба, и верит ему.[242] Судя, однако, по тому, что он Франциску о своем видении не говорит, — должно быть, чувствует, что оно может его и не порадовать. Кто в самом деле, даже из грешных людей, кроме самых глупых или сошедших с ума от гордыни, согласился бы воссесть на «престол Люцифера»? Но если так для грешных, то для Святых тем более, а для смиреннейшего из Святых, Франциска, — больше всех. Самое жалкое и страшное, что могло бы с ним произойти, — это вечный, в славе, позор, в самом небе ад; «вознесение на престол Люцифера».
Думал ли он когда-нибудь об этом? Кажется, думал.
ХС
«Почему ты? почему ты (избранник Божий)?.. Ты некрасив, неучен и незнатен; почему же к тебе идет весь мир?» — спрашивал однажды Франциска брат Массео, красивый, ученый и знатный.
«Хочешь знать почему? — ответил Блаженный. — Зорки очи Божии: увидели, что нет на земле твари слабее, подлее, гнуснее, презреннее меня; вот почему и возвысил меня Господь, да посрамит всех великих земли!»[243]
Чудно и страшно уже возвысил, и продолжает возвышать, и до чего возвысит, — неизвестно. — «Буду велик, — больше Карла, Александра и Цезаря, — больше всех людей на земле!» — мог бы он вспомнить, как хвалился друзьям своим, подвыпивши, когда был еще «скоморохом», «игрецом», не Божьим. А если бы вспомнил и безумное пророчество монны Пики Простейшей: «Сыном Божьим будет мой сын!» — то это благословение матери ужаснуло бы его, может быть, больше, чем проклятье отца.
Очень вероятно, что Франциск испытывал иногда, в порядке духовном, нечто подобное тому, что в порядке физическом Святые называют «подыманием», levitatio, и что многие люди испытывают, летая во сне, — странно легкую, чудесную и в то же время естественную победу над притяжением земли. Но наяву такие полеты могут быть и очень страшны, как в головокружении перед обмороком, когда человек, теряя равновесие, не знает, куда летит, вверх или вниз, в небо или в преисподнюю. Судорожно, в такие минуты, цепляется Франциск за землю, прилипает к земле как червь, чтобы не быть «вознесенным на престол Люцифера».
Может быть, в одну из таких минут велит он братьям, «именем святого послушания», влачить себя, голого, с веревкой на шее, как злодея, на городскую площадь. — «Думаете, что я святой? — говорит народу. — Нет, величайший из грешников!» И кается в мнимом грехе, — в том, что ел мясо, потому что о грехе настоящем, возможном или невозможном, не смеет сказать ни людям, ни себе, ни Богу. Но никто не понимает его, не верит ему; плачут все и рыдают, бия себя в грудь: «Если уж такой Святой так унижает себя, что же делать нам, грешным?» И опять возносят его благоговейно-безжалостно на «престол Люцифера».[244]
«Столько сделал зла, что будешь в аду!» — хочет сказать Блаженному один из братьев, по его приказанию, но говорит: «Столько сделал добра, что будешь в раю!»[245] «Грешен, грешен, грешен», — повторяет Франциск ненасытимо, а люди отвечают ему, как беспощадное эхо: «Свят, свят, свят».
XCI
Первенцу своему возлюбленному, брату Бернардо, приказывает он, тоже «именем святого послушания»: «Я лягу наземь, а ты перейди через меня трижды, каждый раз наступая мне одной ногой на горло, а другой — на рот, и говори мне так: вот чего ты достоин, сын Пьетро Бернардоне, смерд!» и еще говори: «Откуда гордыня твоя, презренная тварь?» Это будто бы наказание за какой-то опять пустой и мнимый грех, а в действительности, может быть, жажда презрения неутолимая.
И, не смея ослушаться воли Блаженного, с ужасом топчет брат Бернардо, человек, Серафима Распятого.[246]
Ходит «канатный плясун», «скоморох Божий», вниз головой по веревке, протянутой между двумя безднами, — гордыней Люцифера и смирением Серафима; кружится у него голова, и судорожно цепляется он руками за веревку — едва уже действующее на него притяжение земли, чтоб не сорваться и не упасть в страшную глубину или не вознестись в вышину еще более страшную.
Как пал ты с неба, Денница, сын Зари (Утренняя Звезда — Люцифер)…
А говорил в сердце своем: «на небо взойду, выше звезд Божиих вознесу престол мой… буду подобен Всевышнему!» Но ты низвержен в ад, в глубину преисподней… ты — как попранный труп (Ис. 14, 12–19).
Вот ужас Франциска, — самое «жалкое» в нем, — то, чего люди не знают и за что его не жалеют.
XCII
«Что такое послушание совершенное?» — спрашивали однажды братья Блаженного, и он отвечал им так: «Мертвое тело возьми и клади, куда хочешь, — не будет противиться, потому что все равно ему, где лежать; посади его на престол, — будет смотреть не вверх, а вниз; в царский пурпур одень, — только побледнеет вдвое… Вот что такое послушание совершенное».[247]
Ты уже не раб, но сын jam non servus, des filius (Гал. 4, 7); ты уже не труп, но живой, — так, для Павла, а для Франциска и Лойолы: «ты уже не сын, но раб, jam non filius, sed servus; ты — не живой, а труп»: «Призваны вы к свободе, братья». — «Стойте в свободе, которую дал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 13; 1).
Оба, Франциск и Лойола, не устояли в свободе, — под иго рабства вернулись. Церковь в этом неповинна: оба вольно в рабство идут.
Самому веселому человеку в мире вдруг сделалось скучно; самое живое, огненное, легкое, что было в мире, превратилось в самое тяжелое, холодное, мертвое, — свобода Франциска — в «трупное послушание» Лойолы: «Будь послушен, как труп, perinde ас cadaver».
Страх свободы, — вот, может быть, грех не только св. Франциска и св. Лойолы, но и всей христианской святости.
Кто освобождает людей, Бог или дьявол; чья Утренняя Звезда — свобода, — Люцифера или Сына Божия, — в этом, конечно, весь вопрос. Иоахим на него отвечает; Франциск молчит.
Страх свободы и гонит его в «послушание трупное»: хочет он только одного, — замереть — умереть, не шевелиться, быть неподвижным, «послушным, как труп», чтоб не причинять боли раненной насмерть душе.
XCIII
«Трупное послушание», кажется, первая тайна власти брата Ильи над Франциском: «трупом» не чувствует он себя ни в чьих руках так, как в его. Тайна вторая, кажется, то, что брат Илья — единственный человек в мире, «презирающий» Франциска от всей души (этого, впрочем, никто не видит, кроме самого Франциска, потому что брат Илья, по виду, с ним почтителен, как сын, и нежен, как «мать»). Каждым словом своим, каждым взглядом бьет он его по лицу, «наступает ему на уста»; влачит его, голого, как злодея, с веревкой на шее, и делает это лучше всех, потому что не по его приказанию, а по собственной воле. Вот для чего он так нужен Франциску и почему тот любит его, как «мать». Брат Илья, может быть, единственный человек в мире, который утоляет в нем, хоть каплей воды, палящую жажду презрения.
Третья, наконец, самая страшная тайна власти его над Франциском, кажется, то, что он — духовно-«прокаженный». Очень вероятно, что бывали минуты, когда Франциск испытывал такое же к нему отвращение и ужас, как и к тому прокаженному, с которым некогда встретился на дороге, и так же хотел от него бежать, и так же возвращался к нему, и целовал его в уста.
Понял, наконец, что этого не надо было делать, когда узнал, кто он такой; но было уже поздно.
XCIV
Трижды хотел он бежать от брата Ильи (тот уже давно если не в плоти, то в духе ходил около него, подстерегал); бежать хотел и от себя самого; трижды искал мученичества в крестовых походах: в первый раз, в 1212 году, в Сирии; во второй — в 1215 году, в Марокко; в третий — в 1219 году, в Египте. Искал, но не нашел; если и принял муку, то не от чужих, неверных, а от своих же, христиан.
В 1219 году, при взятии города Дамиетты крестоносцами, увидел впервые, лицом к лицу, ужас войны. Если бы мы лучше знали эти дни Франциска, о которых очень мало говорит история, а легенда не говорит почти совсем, то, может быть, мы увидели бы в жизни его поворотную точку.[248] Главное дело, для которого он шел в крестовые походы, — обращение неверных — не удалось. Он возвращается ни с чем или со смертью в душе; во всяком случае, из последнего похода уже не таким вернулся, каким в него пошел: понял, наконец, страшную косность людей, тяжесть и медленность времени; понял, что лев ляжет рядом с ягненком не так скоро, как ему казалось, и царство Божие страшно от него отдалилось. Вот, может быть, почему, почти тотчас по возвращении из Египта, в 1220 году, на общем собрании — капитула Братства в Портионкуле, через одиннадцать лет по его основании, отрекается от власти наместника и передает ее сначала брату Петру Катанскому, а потом, в 1221 году, брату Илье.[249]
В следующем году, когда заповедь Господню о нищете совершенной в первом Уставе от 1209 года уничтожил, должно быть, брат Илья, не без согласия кардинала Уголино, верховного наместника Братства, — Франциск если на это и не соглашается, то и не восстает, удержанный «послушанием трупным»; только говорит: «Мертв я отныне для вас, братья мои!»[250] Это и значит: «Я уже труп». — «Вскоре после того он тяжко заболел и был почти при смерти».[251]