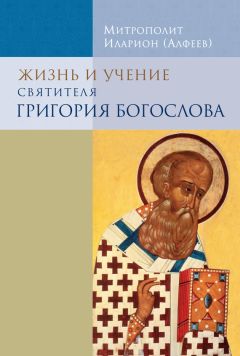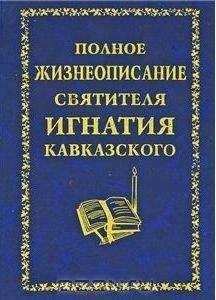Между тем как Юлиан идет вперед, появляется персидское войско и непрестанно возрастает в числе, но не считает нужным стать лицом к лицу и подвергаться опасности без крайней необходимости, имея возможность одолеть с малым усилием, напротив, с высоких мест и из теснин, где представится случай, поражает копьями и стрелами, занимает наперед удобные проходы и тем преграждает путь Юлиану. Тогда приходит уже он в большое затруднение и, не зная куда обратиться, находит худой конец своего замысла. Один перс, не низкого происхождения, подражая Зопиру, бывшему у Кира при осаде Вавилона, под видом, что важным проступком навлек на себя великий гнев персидского царя и сделался весьма нерасположенным к нему, питает же расположение к римлянам, притворством своим приобретает доверие Юлиана и говорит ему: «Что это значит, государь? Почему такие легкие меры в таком деле? Для чего у тебя этот хлеб на кораблях — это излишнее бремя, внушающее только малодушие. Ничто так не побуждает противиться начальству и упорствовать, как сытое чрево и мысль, что под руками спасение. Но ежели послушаешь меня; то бросишь корабли и тем освободишь от малодушия свое храброе войско. Сам же ты другим удобнейшим и безопаснейшим путем, по которому я твой проводник (и могу сказать, что едва ли кто другой лучше меня знает Персию), вторгнешься в неприятельскую землю и возвратишься с желаемым успехом. Тогда окажешь благодеяние и мне, когда изведаешь на деле мое благорасположение и мой совет». Как скоро он сказал это, и Юлиан поверил словам его (ибо легкомыслие легковерно, особенно при Божием попущении); вдруг настали все бедствия. Корабли взял огонь; хлеба не стало; последовал смех; ибо это было почти вольное самоубийство; все надежды исчезли; проводник скрылся со своими обещаниями. Кругом враги; война разгоралась; удобного прохода не было; пища добывалась с трудом; войско пришло в уныние и негодовало на царя; нисколько не оставалось благой надежды. Одно средство представлялось к спасению в настоящих обстоятельствах — избавиться от худого царствования и военачальства.
Так все происходило до сих пор, а что последовало затем, рассказывают неодинаково; бывшие, равно, как и не бывшие на войне, соглашаются, один на то, другой на другое. Одни говорят, что Юлиана застрелили персы, когда он, в одно из беспорядочных нападений, вне себя бросался туда и сюда, и что с ним случилось нечто, подобное участи Кира, сына парисатова, который с десятью тысячами войска напал на брата своего Артаксеркса и, сражаясь отважно, утратил победу по своей запальчивости. Другие рассказывают о нем следующее: Юлиан взошел на один высокий холм, чтобы с него, как с башни, обозреть все войско и узнать, сколько осталось в сражении. Когда же войско, сверх чаяния, показалось ему весьма многочисленным, как человек, завидующий спасению своих воинов, сказал он: «Как будет досадно, если всех их поведем в римскую землю!» Один из воинов, раздраженный этими словами, не удержал досады и поразил его в чрево, не заботясь о сохранении своей жизни. А некоторые говорят, что на это отважился один из тех иноземных шутов, которые следуют за войском для веселья и для потехи на пирах. Иные же отдают эту честь одному сарацину. Как бы то ни было, Юлиан получает действительно благовременный удар и спасительный для целого мира; одним ударом меча наказывается он за сечение многих утроб, которым нечестиво веровал. И дивлюсь, как этот суетный человек, думавший, что может все знать посредством рассекаемых утроб, не предузнал этого одного, то есть удара в собственную утробу. Неприлично умалчивать и о поступке его, который, кроме многого другого, неоспоримо доказывает его неистовство. Юлиан лежал на берегу реки и страдал от раны. Поскольку же знал, что многие из прославившихся прежде него, чтобы почли их чем–то выше человека, посредством некоторых хитростей исчезали из среды людей и за то были признаны богами, то и он, плененный желанием подобной славы, притом стыдясь самого рода смерти, бесславно постигающей его за собственное безрассудство, что замышляет? что делает? Его нечестие не прекращается и с жизнью! Он покушается броситься в реку и для этого пользуется помощью людей, верных ему и участников его тайн. И если бы один из царских евнухов, догадавшийся, в чем дело, и объяснивший другим, из отвращения к злодеянию, не воспрепятствовал намерению, то, может быть, из бедствующего Юлиана явился бы еще новый бог для людей неразумных. Но он так царствовал, так предводительствовал войском, так оканчивает и жизнь!
Вскоре после него принявший царский сан и провозглашенный царем среди воинского стана, в самом пылу опасностей, необходимо требовавших предводителя, был муж знаменитый и по другим достоинствам, и по благочестию, и по наружности, истинно достойной властителя. И хотя не имел он недостатка ни в мужестве, ни в ревности; однако же не мог ни сразиться с персами, ни идти вперед, потому что войско ослабело в силах и надеждах. Сделавшись наследником не царства, а поражения, он заботится о возвращении в отечество и ищет средств, как совершить это безопасно. Если бы персы по своей умеренности в победе (ибо у них был закон — в счастье соблюдать умеренность) или по опасению каких–либо слухов не обратились к мирным предложениям, сколько неожиданным, столько же и человеколюбивым, то не было бы средств, как говорят, и огненосцу остаться в войске [57]. Так римлян теснили персы, сражавшиеся на своей земле и воодушевленные предшествовавшими событиями, ибо довольно приобрести сколько–нибудь успеха, чтобы иметь надежду на будущее.
Но преемник Юлиана, как сказал я, теперь заботился об одном — спасти войско, сохранить силу римлян. Ибо эти воины действительно составляли силу римлян и если действовали неудачно, то более по безрассудству военачальника, нежели по недостатку собственного мужества. С персами заключен был договор (скажу кратко) постыдный и недостойный воинства римского. Но если бы кто, оставив в стороне Юлиана, стал порицать за него преемника, то, по моему мнению, он был бы плохим судьей тогдашних происшествий. Ибо колос принадлежит не жнецу, а сеятелю; в пожаре виновен не тот, кто не мог погасить, но кто зажег. Здесь кстати привести сказанное Геродотом о Самосских тиранах: эту обувь сшил Истией, а носил Аристагор, продолжавший начатое предшественником.
После этого что оставалось делать, как не возвратить римлянам тело нечестивца, хотя как он окончил жизнь? Но как и у нас есть усопший, прежде него оставивший жизнь (Констанций — ред.), то посмотрим, какое и здесь различие между обоими царями (если и это сколько–нибудь служит к счастью или злосчастью отшедших). Один сопровождается всенародными благословениями, торжествами, шествиями и нашими священными обрядами, всенощными песнопениями, возношением светильников, чем мы христиане чтим благочестивое преставление; и вынос тела его становится радостным торжеством, растворяемым печалью. Если верить молве, которая достигла слуха многих, то, когда тело Констанция несли через Тавр в его родной город, ему соименный и знаменитый, — на вершине гор некоторыми слышан был голос как бы поющих и сопровождающих, и думаю, что это был голос Сил Ангельских, — награда ему за благочестие и надгробное воздаяние. Если он, по–видимому, и поколебал правое учение; то в этом виновны невежество и зловерие его вельмож, которые, уловив душу простую, неутвердившуюся в благочестии и не предвидевшую бездны, влекли ее, куда хотели, и, под видом попечительности, возбуждали ревность к злу. Но мы, помышляя о том, что более касается всех, то есть об отце его, который положил основание царской власти в христианстве и Вере, и о наследии учения, перешедшем от отца к нему, почтили должным образом земную храмину того, кто жил достойно царя, окончил жизнь смертью праведника и оставил нам могущество. Нужно ли говорить о сопровождении целого воинства, когда тело приблизилось в великому царствующему граду, и о рядах вооруженного войска, представших царю, как живому, или о том, как весь город потек на встречу, которая блистательнее всех, когда–либо бывших и будущих? Да и этот дерзкий и отважный, облеченный в новую порфиру и потому, вероятно, высоко о себе думающий, сам составляет часть торжественного шествия, воздает и приемлет почесть; одно, как говорят, несколько принужденно, другое охотно. Ибо все войско, хотя покорилось настоящей власти, однако оказывало больше уважения умершему; и (как обыкновенно бываем благорасположеннее, когда потеря еще свежа в памяти) скорбя и сожалея о любимом царе, воины не потерпели, чтобы он был лишен царских почестей, но убеждают и отступника принять в них участие, даже принуждают встретить умершего в приличном виде, то есть, сняв с головы диадему и воздав царю должное поклонение, идти вместе с несущими в гробницу — в знаменитый храм Апостолов, которые приняли в себе и сохраняют этот священный род, удостоившийся почти равной чести. Так погребен наш Император!