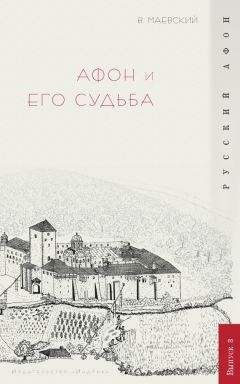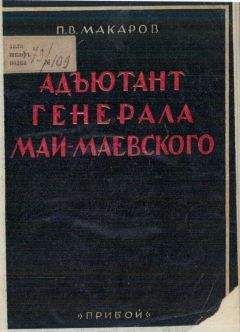– Владыко милостивый! – заговорил он. – Великая радость для меня ваше посещение, господин! И как это вы догадались, что я, грешный, здесь нахожусь? Видать, услыхали со стороны мою кирку. А я ведь и ковыряю-то ей едва-едва. Вот все же услышали. Что значит молодые уши. Воистину, Сам Господь привел вас сюда!.. Так русский вы человек? О, Господи милосерд!..
Отцу Вивиану – таково было имя старца – как оказалось, было восемьдесят шесть лет. Возраст настолько уже почтенный, что при нормальных условиях работа была бы уже излишней. И тем не менее, этот дряхлый и слабый старец должен был на закате своей многотрудной подвижнической жизни еще трудиться на виноградниках, как обыкновенный и здоровый молодой инок-работник. И притом это являлось для него вовсе не добровольным препровождением времени, а настоящим монашеским послушанием, необходимым для существования других братий и благосостояния их обители.
– Ничего не поделаешь, господин, при теперешнем нашем бедственном положении, когда нет молодых иноков, а остались только старцы! – со вздохом сообщил мне отец Вивиан, поправляя сухой старческой ладонью прядь седых волос, выбившихся из-под старенькой скуфейки.
– Что ни месяц, все меньше становится нас, русских иноков, на Святой Горе. Оскудевает наш русский сосуд монашеский. Не позволяют греческие власти нашим братьям приезжать теперь на Афон, закрыли для них доступ. Да и не только для русских людей закрыли они Гору Святую, а для всех славян… Не пускают даже румын. Вот и нет больше притока новых сил в нашу братию. Мы, старики, кончаем наш греховный жизненный путь, а заменить-то нас вот и некому…
Старец помолчал немного, а затем грустно кивнув на свою кирку, продолжал:
– Вот и с работой тоже беда. Все нам самим, старикам, приходится делать: нет у нас молодых и здоровых работников, как бывало раньше. А силы-то падают, едва-едва в руках какой-нибудь инструмент держится. Что поделаешь, если нельзя без работы оставить обитель? Как жить-то дальше будем? Не окопаешь виноградник, не нарубишь леса, не вспашешь поля – и весь скит пропадает, в пустыню превратится! Вот, как можем, и тужимся, оставшиеся еще на земле грешные рабы Господни, дабы не пропасть совсем. Власти греческие ввели суровые правила, очень суровые. И если будет идти все так и дальше, совсем пропадут на Афоне русские обитатели. А не станет русских иноков, какой же тогда будет русский монастырь?
Старец умолк в печальном раздумье. Не начинал разговора и я после его грустных слов.
– А все это идет оттуда, господин, с нашей матушки родины многострадальной. Все от нее! – возобновил отец Вивиан свою речь после длинной паузы. – Слыхал я немало о том, что сотворили в России, доходили и до нас эти скорбные вести. Испытывает нас Господь Всемогущий! Ничего не поделаешь: попустил Он за наши грехи… Попустил и вот уже сколько лет не хочет помиловать. И никто не знает, никто не скажет, когда же ждать конца нашим испытаниям.
Неожиданно старец поднял одной рукой свою кирку, а затем снова опустил ее, ударив при этом с такой силой, что я невольно обратил внимание на этот необычайный прилив старческой энергии.
– Бога забыли… Вот и вся причина страшных бедствий! – воскликнул старец уверенно. – Забыли заповеди Господни!.. Вот и мучается так долго весь народ, мятется, как в преисподней, не ведая, что творит, и не видя ни в чем ни конца, ни начала! Князь тьмы гуляет по Руси, храмы разрушает, пастырей Христовых убивает, бесчестие и распутство сеет… Только все же придет и этому конец… придет! Дождется и русский народ своего воскресения… дождется!
Старец легко коснулся моей руки своими сухими пальцами и проговорил совсем тихо, одновременно в упор посмотрев на меня своими старческими голубыми глазами.
– Верьте мне, господин, что помилует Господь Бог нашу родину… и ударит час обетованный, когда проснется народ от греха своего и опомнится. Придет, ударит этот долгожданный час… Только нам, грешным, посильнее молиться надобно! А вы откеля, из каких мест будете, господин хороший? Имеете жену, деток?
Я, как мог, отвечал на все вопросы старца, стараясь удовлетворить его любознательность.
* * *
В беседе с этим замечательным старцем время летело незаметно. И я не скоро вспомнил о своем намерении пораньше добраться до сиявшего вдали своими золотыми куполами русского скита Иваницы.
– Отселева уже недалеко до обители. Поспеете, пока еще солнышко высоко. Пошел бы и я, да только уж очень плохой я спутник для молодого человека: ноги уже не носят, как нужно. Да и работы здешней бросить нельзя: некому исполнить послушание. А без работы этой не вырастет виноград, как нужно… Уж вы идите один, дорогой наш гость, с Богом идите. Вот так и доберетесь до скита по этой тропинке, не собьетесь!
При нашем прощании старец опять забросал меня вопросами о Сербии, причем обнаружил большое знакомство со всеми замечательными событиями этой близкой страны, волновавшими ее за последние годы. С искренним уважением распрощался я с милым старцем и спустя короткий срок уже уходил от него вдаль, оставляя позади себя и замечательное место, с которого открывалась незабываемо прекрасная панорама, и самого старца, так неожиданно встретившегося на пути моего паломничества по Афону.
При входе в новый зеленый коридор, начинавшийся шагах в двухстах от места, где я распрощался с отцом Вивианом, оглянулся и еще раз увидел этого посвятившего свою жизнь Богу простого русского человека, проводившего на земле девятый десяток положенных ему лет.
Старец все еще стоял на небольшом холме, весь залитый солнцем, смотрел мне вслед и, по-видимому, не хотел уходить, пока я не скроюсь из вида. И когда я оглянулся, он осенил меня напутственным крестным знамением. Я, в свою очередь, низко поклонился благословлявшему меня старцу. И, думаю, что он так же хорошо видел мой поклон, как и я его крестное знамение.
А спустя еще минуту я уже шел густым зеленым коридором. И с тех пор уже больше никогда не встречался со старцем Вивианом, хотя его тихий старческий облик и знаменательные речи живут в моей памяти до сих пор.
Опять вокруг меня расстилались зеленые просторы. Безмолвные горы с их крутизнами и густой растительностью, уходящими к голубому небу строгими кипарисами и серебристым зеркалом моря, синеющим из-за изумрудной листвы. А там, далеко внизу, в дымке тумана виднелись тихие бухты, острова и мирские поселки. Тропинка вилась среди густых зарослей. И не помню, как я добрел до этого чудесного уголка, открывавшегося на моем пути как бы совсем случайно.
– Да здесь никак пасека Крумицы! – спохватился мой спутник, стараясь рассмотреть что-то за густой зеленью листвы. – Так и есть. Она самая! Здесь отец Иассон спасается и Божьих пчелок обслуживает. Любопытный монах. Вот сейчас сами увидите! – закончил иеромонах Харлампий, сворачивая куда-то в сторону от тропинки.
Минута – и он, отодвинув какой-то засов, уже пропускал меня в небольшую калиточку, за которой вилась узенькая тропинка, пробегавшая над глубоким оврагом, густо заросшим кустарником и деревьями. А вокруг, казалось, на много километров не было никакого человеческого жилья, настолько дикой представлялась вся окружающая местность. И вдруг мы почти вплотную подошли к маленькому домику, в который вели две двери: прямо, по-видимому в жилое помещение, а по терраске направо – в крошечную церковку, где мерцали лампадки. И я невольно сразу же направился вовнутрь этого миниатюрного храма, чтобы приложиться к святыням.
Действительно, редкостным был этот храм, созданный руками всего лишь одного человека и в то же время содержавшийся в исключительном порядке. Как прохладно было в нем после нашего продолжительного перехода под палящим зноем. И какая приятная истома овладела всем телом, когда, помолившись перед закоптелым образом, я вышел спокойно на церковный порог и уселся на скромной терраске. Только тогда, осмотревшись по сторонам, заметил я вдали на косогоре множество ярко окрашенных ульев, разбросанных, подобно грибам, по большой лужайке. А около одного из ульев увидал фигуру монаха в подряснике и с защитной сеткой на голове.
– Отец Иассон, а отец Иассон! – прокричал мой спутник, по-видимому предпочитавший издали сообщить хозяину о нашем приходе и не решавшийся переступать заветные границы пасеки, где жужжали пчелы. – Бросайте работу, отец Иассон, я вам гостя привел. Идите сюда!
Монах-пасечник помахал нам издали рукой в знак своего согласия. И вскоре его освещенная ярким солнцем фигура стала приближаться к келийке, где мы дожидались его. С невольным любопытством поджидал я этого старца-пасечника. Каково же было мое удивление, когда вскоре на терраску взошел не старец, а еще совсем молодой инок, всего несколько лет назад вступивший на землю Афона мирянином-паломником из Прикарпатской Руси, а затем уже навсегда оставшийся для монашеской жизни у подножия Святой Горы.