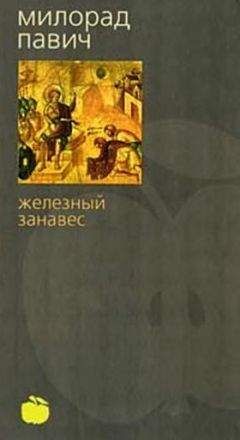Новое ключевое понятие, введенное Хомяковым и изменившее весь характер его теорий, было понятием соборности. Здесь нет необходимости повторять общеизвестные основные сведения об этом понятии, и я лишь упомяну, что понятие и термин соборность образованы Хомяковым от Третьего признака Церкви в Символе веры, причем, образуя свое понятие, он удачно использовал смысловые возможности, заложенные в церковнославянском и русском переводе Символа. Именно в этом переводе, но не в греческом оригинале и не в других переводах (включая латынь), Третий признак, kaqolikÒj, т.е. всеобщий, универсальный, стал прилагательным от слова «собор»[4] и тем самым, приобрел дополнительные смыслы, ставшие важной частью хомяковской трактовки понятия. Эта трактовка вылилась у мыслителя, как известно, в цельное учение о соборности. Сейчас, в нашем беглом обсуждении, мы можем представить состав этого учения в виде двух главных разделов: Соборность как онтологический принцип, и Соборность как экклезиологический принцип. При этом, допустимо считать, что, поскольку мысль Хомякова двигалась от философии к богословию, то первый из этих разделов служит частью второго, и учение о соборности в целом может рассматриваться как экклезиология соборности.
В своем онтологическом содержании, соборность выступает как определенный принцип организации, устроения бытия: именно, принцип соборного единства. Хомяков тщательно и подробно описывает этот специфический тип единства, изначально предполагая его присущим бытию Церкви (в согласии с Символом) и раскрывая его двояким путем: отрицательным, через противопоставление двум другим типам, которые ассоциируются с церковным устроением в инославии (католичестве и протестантстве), а также – что более существенно – положительным, через свидетельства опыта жизни в Церкви. Такое исследование прежде всего усматривает, что конституирующий принцип и признак Соборного Единства – его особая внутренняя жизнь; и хотя для характеристики этой жизни еще используется органический язык, но это использование умеренно и ограниченно. Данный вывод влечет, что Соборное Единство, как созидаемое сугубо изнутри, некою своей сокровенной жизнью, не определяется никакими внешними признаками или критериями, оно неуловимо, неопознаваемо для внешнего наблюдения. Нельзя поэтому точно удостовериться извне в существовании Соборного Единства, и доказательство такого существования может исходить лишь от него самого, как его собственное изъявление. Так возникает обоснование давней и прочной интуиции Хомякова, высказанной уже в начале его «катехизиса»: «Церковь видима только верующему... Церковь не доказывает себя ни как Писание, ни как предание, ни как дело, но свидетельствуется собою»[5].
Далее, вновь продумывается и получает новую, углубленную трактовку другая постоянная тема Хомякова, тема единства и свободы. Характер связи Соборного Единства с началом свободы – ключевое свойство этого особого единства, и в его раскрытии важную роль играет противопоставление инославию. В рационалистическом понимании, свобода и единство несовместимы, и в инославии, по Хомякову, рационализм победил: в католичестве действует жесткое подчинение внешнему авторитету, или единство без свободы, в протестантстве же свобода без единства, собрание множества «личных мнений без общей связи»[6]. Но в Соборном Единстве, Церкви, оба начала соединяются и присутствуют одновременно, здесь они не только совместимы, но необходимо предполагают друг друга, и Хомяков утверждает это усиленно, настойчиво, без конца варьируя формулы соединения и синтеза: «Церковь – свобода в единстве»[7], «Единство Церкви есть не иное что как согласие личных свобод»[8], «Единство... плод и проявление христианской свободы»[9] – и т.д. и т.д. Тут, таким образом, – важный пункт, и важно, что природу этого синтеза свободы и единства в православной церковности Хомяков раскрывает отнюдь уже не из формальных противопоставлений, а также и не на базе спекулятивной философии, как Гегелев синтез противоположностей, но только на положительной основе церковного опыта. Он фиксирует, что в лоне Соборного Единства, образуя свое соединение, и единство, и свобода глубоко изменяют свою природу. Свобода здесь отлична от привычных категорий свободы воли и свободы выбора в западной философии и теологии; так понятая, она неспособна служить созидающею силой единства. Соборная свобода связывается не с выбором, а с возможностью полноты самоосуществления человека, которая для члена Церкви, верующего (здесь важна трактовка веры у Хомякова как особого «верующего состояния» всего цельного человека), заключается в Богоустремлении и Богообщении. Хотя у самого Хомякова это понятие соборной свободы не было отчетливо разработано, оно несомненно сближает его мысль с патристикой, ибо совпадает по сути с понятием «свободы (или воли) природной», qšlhma fusikÒn, противопоставляемой свободе выбора, qšlhma gnwmikÒn, у преп. Максима Исповедника.
Начавшееся сближение с патристическим руслом не может остаться без дальнейших последствий. Постепенно усваивая логику патристической мысли, мысль Хомякова делает следующий шаг: замечает, что свобода принимает форму соборной свободы, становится «свободою в смысле христианском», лишь при наличии некоторой фундаментальной предпосылки, под действием некоторой трансформирующей, преображающей силы. И вновь не из философского рассуждения, а из опыта церковной жизни делается заключение, что эта сила, необходимая для создания соборной свободы и соборного единства, есть благодать Божия. По частому выражению Хомякова, соборная свобода – «просвещенная благодатью свобода»; и точно так же Соборное Единство, которому эта свобода тождественна, созидается, как он говорит, «по благодати Божией, а не человеческому установлению». Эти тезисы знаменуют принципиальный рубеж в продвижении его мысли. Благодать, или Божественная энергия, есть премирное, сверхэмпирическое начало; и в силу ее необходимого и конститутивного присутствия, все краеугольные понятия строимого Хомяковым учения – соборность, Соборное Единство, соборная свобода, а также, разумеется, и сама Церковь – должны рассматриваться как понятия, не относящиеся к обычному эмпирическому бытию, но характеризующие некую сверхэмпирическую реальность. Поскольку же христианская онтология допускает лишь два образа бытия, Божественное и тварное, эмпирическое, то эта премирная реальность соборности и Церкви есть реальность Божественная. Важным шагом в понимании учения о соборности было четкое закрепление, сделанное о. Георгием Флоровским: «Соборность в понимании Хомякова – это не человеческая, а Божественная характеристика»[10].
Достигнутый рубеж имеет двоякое значение. В своем прямом содержании, это онтологический вывод об инобытийной природе соборности и Церкви, о том, что Церковь – особый мир и особый порядок бытия. Но такой вывод имеет значение и для развития учения Хомякова: он показывает, что это учение может далее наполняться положительным содержанием лишь на пути погружения в стихию церковной жизни, и прежде всего – в саму ее квинт-эссенцию, в те аспекты, что выражают ее благодатную и харизматическую природу. Иначе говоря, на этом рубеже учение о соборности окончательно перерастает русло органического философствования – и должно развиваться далее как экклезиология.
Экклезиология соборности Хомякова в полной мере воплощает главное достоинство его религиозной мысли – опору на живой, реально испытанный духовный опыт. Основу ее составляют богословские разработки, сегодня ставшие уже классическими: решение проблемы «голоса Церкви», проблемы критериев и способов выражения церковного согласия, консензуса; решение проблемы церковного авторитета; начатки богословия таинств и целый ряд других. За их известностью, мы можем остановиться лишь на тех, которые подводят и приближают к нашей главной теме, соотношению принципа соборности и принципа личности. К таким разработкам мы прежде всего отнесем развитие у Хомякова богословия святости и молитвы.
Коль скоро принцип соборности выражает один из признаков Церкви в Символе, развертывание экклезиологии на его основе естественно может мыслиться как последовательное расширение домостроительства соборности как таковой, чрез усмотрение внутренних ее связей с другими признаками, до полного домостроительства Тела Христова. Подобную логику построения мы и обнаруживаем в экклезиологии соборности. При этом, поскольку дефиницией соборности служит тождество свободы и единства в Церкви, то икономия единства составляет одно с икономией соборности, тогда как икономия признака Четвертого, апостоличности, относясь к действию Церкви в мире, стоит в стороне от нашей темы; у Хомякова она также получает относительно малое внимание. Напротив, святость Церкви для Хомякова – одно из самых важных и дорогих свойств церковного бытия. Она поставляется в самом центре, в фокусе экклезиологии, пребывая рядом с соборностью и в обоюдной тесной связи, срастворенности с нею. Правильно будет сказать, что в богословии Хомякова соборность оказывается свята, а святость соборна – так что оба признака, соединяясь, передают самое существо церковности, благодатную и харизматическую природу Тела Христова. Эта обоюдная связь двух устоев церковности лежит в основе хомяковского богословия молитвы. Здесь, в этом богословии, выпукло предстают самые характерные черты и мысли, и личности Хомякова, его духовного типа: их соборно-киновийные основания.