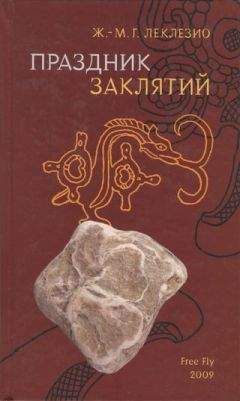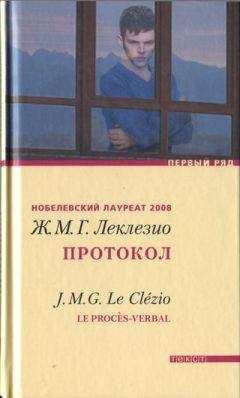Мне захотелось описать испытанные впечатления. Проснувшись, я стал что-то торопливо черкать в блокноте, словно боялся потерять нить. Я расспрашивал Коломбию о том, что мне привиделось ночью. О дереве, усеянном глазами, о великане в синей набедренной повязке, смотревшем на меня с другого берега реки, а еще о доме паука, о деревне духов… Он же только качал головой. Ведь все это действительно существовало, просто являлось реальностью того незримого для прочих смертных мира, в котором он обитал всегда.
После, когда у меня не осталось ничего, кроме полученного от Коломбии жезла с вырезанными на нем лицами мужчины с одной стороны и женщины с другой, я понял, что все виденное должно остаться во мне: не следует об этом говорить. Ведь это было не просто приключением, случившимся во внешнем мире, чем-то вроде путешествия или познавательной экскурсии. Тот мир никуда не девался, просто существовал и ждал меня, а Коломбия наконец позволил мне там побывать. Лишь разок. Теперь мне следовало попытаться жить, как прежде, в моем привычном мире, вдали от страны ива тобари. И я отчаялся что-либо записать, мои заметки пропали, ведь получить что-либо нам удается только ценой утрат. Это и пытался внушить мне вещун.
А в ночь, следующую за колдовскими откровениями, начинается «бека» — «праздник заклятий».
В сумерках колдун, стоя на лестнице, ведущей в его дом, дует в морскую раковину, поворачиваясь на все четыре стороны света, созывая духов. Затем в спокойной ночной тишине раздается его тонкий резкий голос, что разматывается, как бесконечная нить, оплетающая всех, кто участвует в церемонии. Сидя на маленькой деревянной скамеечке, хаибана покачивает в одной руке охапку листьев, в другой — пучок прутьев, служащих орудиями его колдовства; там и волшебные палочки с нанесенной на них магической резьбой самого причудливого вида: изображения двуликих людей, вопящей обезьяны, рыбы-пилы, рыболова с линем в руках, а кроме того, представлены там и полицейская дубинка, копье, испанская сабля, видимо, времен конкисты. Размеренное похлопывание листьев по земле призвано подманить духов из всех уголков леса и даже из дальних мест: с болот Колумбии, с Кибдо, с Рио-Сан-Хуан…
Духи мчались вприпрыжку, летели, звук их шагов сливался с шумом хлещущей оземь листвы, их привлекали разложенные для них хлеб, сушеное мясо, плошки с «чичей» (местной разновидностью пива). Но вот пение становится все громче, громче, голос делается невероятно тонок — таким фальцетом поют в иных мирах. Хаибана танцует у дома, кругом обходя больного и принесенные дары, топает ногами, содрогается, лицо гримасничает в сиянии масляных ламп. В его чертах, сменяя друг друга, мелькают и нежность, граничащая со сладострастием, и угроза, и плач. Передо мной разворачивается театральное действо в его первоначальном, ничем не замутненном виде, очень впечатляющее. Все прочие участники движутся в танце за колдуном, их тела следуют ритму мелодии, где постепенно все отчетливее звуки «ширу» — флейт, каждая из которых выпевает единственную ноту; в темноте их трели напоминают кваканье лягушек.
Праздник продолжается всю ночь, иногда может длиться несколько ночей подряд. Время изменяет ход. Дни будто сокращаются, а пламенеющие ночи не имеют конца. Вечером хаибана отдыхает часок, а родственники в это время занимаются больными, кормят их, поят, купают… Наконец, начинается последняя церемония, «каква-хаи» («дух-тело»), во время которой болезнетворные духи изгоняются из тел болящих и отсылаются далеко прочь. А наутро арки из пальмовых ветвей, охапки листьев, венки, гирлянды и выточенные из бальсового дерева фигурки бросают в реку.
Менью — знахарь известный, с ним надо держать ухо востро. Он живет в большом доме на берегу Рио-Тупиза, недалеко от ее впадения в Чукунаке. Почтение к его целительскому дару велико, он славен везде, где есть селения эмбера, и даже за пределами этой территории. При первой встрече меня поразила его наружность: он мал ростом, с очень мягкими, почти женственными чертами лица, его волосы, остриженные чуть ли не по линеечке, ниспадают до плеч. У него старательно выщипаны ресницы и брови, а на теле он не носит ничего, кроме узкой набедренной повязки из пестрой ткани. Во всем его облике сквозит изнеженная хрупкость, меж тем как глаза горят странным, тревожащим душу огнем.
Мне стало известно, что на его попечении — женщина, умирающая от рака. Менью несколько недель занимался ею, пел для нее. Я ее потом видел, она лежала в тени навеса из пальмовых листьев в дальнем углу дома. Еще не старая, лет тридцати, но лицо, туго обтянутое кожей, похоже на череп, руки и ноги — как палочки, а живот огромен и раздут. Она уже давно ничего не ела и едва могла пить. Из государственной больницы в Панаме ее выписали умирать домой, в сельву, потому что у врачей опустились руки.
Каждую ночь Менью пел для нее. Ее муж и родственники внесли деньги на оплату бека, празднества заклятий. Дом, как положено, украсили арками из пальмовых ветвей, развесили букеты цветов и деревянные статуэтки. Посреди дома на ложе из листьев поставили чаши, полные «чичи» и «атоле». Но Менью пел не ради выздоровления, он готовил обреченную к кончине.
Раньше я никогда такого не видел и до сих пор не могу забыть. Молодую женщину уложили на пол. Грудь больной поднималась с трудом, ни рукой, ни ногой она была уже не в силах шевельнуть. А лицо светилось лучезарной улыбкой, глаза, от истощения ставшие громадными, сияли. Она была рада, что вернулась сюда из больницы, ей больше не грозят жестокие процедуры, все эти зонды и пункции. Теперь ей было позволено умирать, легко уплывая под напевы хаибана, словно воздушный змей. Она отошла в иной мир через двое суток, на рассвете, когда пение Менью близилось к финалу.
О празднестве заклятий я заговорил потому, что участие в этом ритуальном действе изменило меня коренным образом: теперь я иначе думаю о религии, о медицине и о том особом способе представлять себе время и реальность, который называют искусством. Став свидетелем подобного празднества, я осознал, что нет и быть не может более полного, исчерпывающего способа игры, смысл которой — не только лечение, но и обретение утерянного равновесия, некой основополагающей истины. С помощью празднества заклятий местные индейцы продемонстрировали мне такие образцы совершенства формы, такую образную мощь, каких я более нигде и никогда не видывал.
А еще я так долго говорил о племенах эмбера и ваунана, с которыми столкнулся тогда, о хаибана Менью и Жеренте-Пенья, о песнях Эльвиры и о знахаре Коломбии в благодарность за то, чем они меня одарили, хотя истинного значения этого дара я и поныне не в силах осознать вполне. Они подвели меня к порогу, за которым открывался мир центральноамериканских индейцев, безбрежный во времени и пространстве, во всем многообразии его проявлений. В нем все сошлось воедино: предания мексиканской древности, сказания о Мехико-Теночтитлане, те представления о гармонии, что пять столетий назад уже выработали инки, майя, пурепеча и обыденная жизнь нынешних индейцев, нашедших приют в пустынных далях Великого Севера и Нью-Мексико, в сельве Дарьена.
Едва я начал понимать, какой путь забрезжил передо мной, как тут же, разумеется, стало ясно, что дальше мне нельзя. С этим оказалось трудно смириться: то был полный провал, горький, словно безответная любовь. Я вернулся в мой мир, где есть мебель, книги, но где трудно набрести — разве что иногда в поэзии — на откровение, что «жизнь кругла», как говорит американка Рита Дав.
«На тринадцатый день месяца августа в час вечерни, в день святого Ипполита, в год тысяча пятьсот двадцать первый» Куатемок, последний император ацтеков, пленен воинами завоевателя Эрнана Кортеса. Древняя столица Мехико-Теночтитлан теперь в руках испанцев. Падение легендарного города после жестокой шестимесячной осады — еще не конец трагедии. Напротив, оно знаменует начало длинной цепи войн, бед и испытаний, кульминацией которых станет почти полное сокрушение индейской цивилизации, упразднение ее юридической и политической независимости, гибель искусства и исчезновение местной религии, философии и морали. Такова грустная история, что известна остальному миру как «Черная легенда разгрома Обеих Индий», согласно определению, данному епископом из Чьяпаса, Бартоломе де Лас Касасом.
Эта трагедия послужила темой для священных книг американских индейцев, оказавшихся единственным наследством, которое исчезнувшие культуры оставили немногим, кто выжил. В Перу создателем такой книги стал хронист Хуан Баутиста де Помар, рассказавший о последних днях империи инков. В Гватемале есть «Пополь-Вух» («Книга народа») — эпос индейцев майя-киче. В Мексике — три основополагающих текста, относящихся к культурам трех империй, процветавших до испанского нашествия: «Флорентийский кодекс», повествующий о Мехико-Теночтитлане, «Описание Мичоакана» — о жизни народа пурепеча и «Пророчества Чилам-Балама» — о юкатанских майя, чьи поселения концентрировались вокруг Чичен-Ицы.