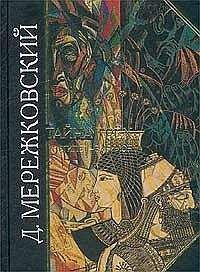«В твоей земле обиду мне учинили; казни же их (грабителей). И отнятое серебро возврати, и тех, кто людей моих убил, убей и кровь их отмсти. А если не убьешь их, то снова будут они грабить караваны мои, или посланных тобою убивать, и сношения между нами прекратятся…. В дар тебе посылаю мину лапис-лазури» (Grossmann. Altorientalische Texte, I, 129).
Такова всемирность в политике. Но не в политике источник ее, а в религии.
XXXIV
В Тель-Амарне найдена клинописная дощечка с былиною о вавилонском богатыре Этане. Точки, разделяющие клинопись, сделаны египетскими красными чернилами: вероятно, египтянин учился по этой дощечке вавилонской грамоте, а может быть, и вавилонской мудрости.
XXXV
В той же переписке найдено письмо Тушратты, царя Митаннийского, пославшего в Египет изваяние богини Иштар для исцеления больного фараона Аменхотепа III: «Богиня Иштар Ниневийская, всех земель владычица, так говорит: „Египет хочу посетить, страну мне любезную“. И вот, я послал ее, и она отошла. И, как во дни отца моего, так и ныне посетила ту землю владычица; и, как в те дни пребывала там с честью, так да почтит ее брат мой и ныне, и еще в десять раз больше почтит… И да возвратит ее в радости… И да сохранит нас обоих, брата моего и меня, Иштар, царица небесная. Да подаст нам сто тысяч лет жизни и многие радости. И добро друг другу сотворим».
А в заключение прибавлено:
«Иштар — мой Бог, но она для брата моего не Бог» (Н. Grossmann. Altorient. Texte, I, 130). Это не похвальба, а проповедь: если Иштар тебя исцелит, неужели и ты в нее не уверуешь? Это и значит: «все племена земные да приидут во Врата Божии» — Град Божий, Вавилон; да будет мир всего мира.
XXXVI
«Мир лучше войны», это Вавилон знает — помнит (платоновское «знание — воспоминание») меньше, чем Египет, воюет больше; но любит мир, так же как он: не война, а мир — душа обоих.
XXXVII
От Вавилона к Ассирии — от мира к войне. Не Египет, не Вавилон, а Ассирия начала воевать как следует. Ассирийцы — «первые римляне» во всемирной истории.
Душа Ассура — не мир, а война. Он первый полюбил войну, поверил, что голая сила — меч — решает судьбы народов.
«Сила его — бог его» (Аввак., I, 11). И все мы доныне — дети Ассуровы: что начал он, кончаем мы.
XXXVIII
С рождением или зачатием Ассура почти совпадает появление боевого коня в Западной Азии (около 2000 г.), а также и нашего индо-германского племени (Ed. Meyer. Gesch. d. Alt. Orient., I, II, 819). Медленный вол заменяется быстрым конем, мирный плуг — боевой колесницей. В коне — уже наша стремительность, наш полет неистовый.
XXXIX
После коня, — железо (около 1000 года), кажется, оттуда же, из нашей индо-германской полуночи, — железо, «металл Сэта», дьявола, по слову египтян, или братоубийцы Каина, по сказанию Талмуда: Kênan, Каин — «первый ковач железа» (Талмуд. — Jeremias der alte Testament, 119); железо — европейский металл по преимуществу, наш каинов дар человечеству.
Легкость наша — в коне, лютость — в железе. Попрали конем, убили железом святую Азию, и, может быть, попрем, убьем все человечество. Бурею конною, бурею железною раздувается тлеющее пламя войны во всемирный пожар — всемирную историю, ибо единственный смысл ее для нас — война.
«Все будут убивать друг друга», — это вавилонское пророчество исполняется над нами так, как ни одно из пророчеств (Н. Winkler. Die babyl. Geisteskultur, 100).
От Вавилона к Ассирии, от Ассирии к Риму, от Рима к нам — пламя войны разгорается, и происходит то, что мы называем «прогрессом» — постепенное одичание, огрубение, озверение человечества.
XL
Ассуром побежден Вавилон внешне, но внутренне длится борьба до конца обоих. Вавилон или Ассур, мир или война, — все тот же вопрос, как в Египте; от начала до конца времен — все тот же.
XLI
И вот что удивительно, чуду подобно: «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром», — это забыто, зарыто, но не потеряно. Это сокровище — «золото, ладан и смирну» — приносят волхвы с востока в дар Младенцу.
XLII
«Пал, пал Вавилон… повержен великий город!» — восклицает Ангел Апокалипсиса (Откр. XVIII, 2 — 21). Да, пал к ногам Господним: «И, падши, поклонились Ему».
I
В развалинах Ниневийских дворцов найдено стенное изваяние Раненой Львицы: хребет пронзен стрелою; задние лапы, уже омертвелые, влачатся по земле; но, стоя на передних, издыхающий зверь вытянул шею, поднял морду и разинул пасть, как будто все еще грозит врагу предсмертным рыканием.
Эта раненая львица — душа Вавилона. С такою силою, как, может быть, нигде никогда, здесь изображен таинственный переход жизни в смерть, их мерцающая двойственность, их согласие в противоположностях.
II
«Противоположное — согласное», — учит Гераклит Эфесский (Fragm. 8), недаром посвятивший книгу свою «О природе», Περί φύσεως, Артемиде Эфесской, эллинской ипостаси Великой Матери богов Азийской — Иштар-Мами вавилонской: душа Вавилона, душа всей Азии — в Гераклитовой мудрости.
«Из противоположного возникает прекраснейшая гармония; из противоборства рождается все» (Fragm. 8). Это и значит: все рождается из противоборства и согласия двух начал в третьем, из Тайны Трех.
III
«Бог есть день — ночь; зима — лето; война — мир; сытость — голод: в Боге все противоположности» (Fragm. 67). Анантиизмом, «философиею противоположностей» можно бы назвать всю мудрость Гераклита, мудрость вавилонскую по преимуществу.
IV
По тому же учению: «Добро и зло соединяются в действии, как противоположные части лиры и лука». Соединяются и напрягаются, как тетива на луке и на лире струна. Это и есть то напряжение, Spannung, о котором говорит Шеллинг и Яков Бём языком христианской Троичной мистики: «В Боге отрицание и утверждение, небытие и бытие, нет и да, гнев и любовь».
V
Напряжение двух противоположных начал есть Божественная сущность мира. Вот почему в вавилонских изваяниях богов, людей и животных напрягаются таким страшным напряжением, как бы окаменелою судорогою, переплетенные, перекрученные, как морские канаты, исполинские жилы, мышцы и мускулы.
Крепкую медь гнешь, как тростник.
Тут, за явлением силы физической — явление воли метафизической — душа Вавилона: вечно борется она, труждается, «восхищает усилием царствие небесное», или земное.
VI
Ничего подобного в Египте. Там почти не видно мускулов в нежных округлостях юношеских тел: главное свойство их — ненапряженность, вольность и легкость движений. Тела богов, людей и животных как бы вечно покоятся в покое субботнем, в эдемской праздности. Может быть, и здесь — сила не меньшая, чем в Вавилоне, но скрытая: крепкую медь гнет она, как тростник, без усилия.
Вечно борюсь я и вечно труждаюсь;
Ты же, праздный, лежишь на спине.
Как же бессмертье обрел ты в сонме богов? —
мог бы Вавилон спросить у Египта устами богатыря своего, Гильгамеша (XI, 5–7). Но Египет не сумел бы ответить: сила его — тайна для него самого.
VII
«Противоположное — согласное». Согласное утверждает Египет, Вавилон — противоположное.
Здесь уже ни следа египетской солнечной ясности, легкости: все темнеет, тяжелеет как бы каменной тяжестью, под низко нависшими, потопно-тучными тучами.
VIII
Не только в египетском, но и во всемирном ваянии нет ничего подобного издыхающим львам ниневийским. В этих звериных телах анантиизм божественный сквозит еще прозрачнее, чем в телах человеческих.
Вот царская охота: скачущие кони мчат колесницу; царь, обернувшись назад, мечет стрелы из лука в огромного льва; смертельно раненный зверь, встав на дыбы, вцепился передними лапами с растопыренными, похожими на исполинские пальцы, когтями, в обод колеса, как будто хочет остановить колесницу; издохнет сейчас, но с последним рыканием вгрызся зубами в толстый обод — вертящийся вихрь колеса (Place. Ninive et l’Asseyrie, II, pl. 50).
A вот другой, тоже раненый лев, с торчащим в загривке обломком копья, сидя на задних лапах, опустив морду и выгнув спину с предсмертною икотою, блюет кровью, хлещущей из разинутой пасти, как из опрокинутого чана, — и, кажется, с кровью выходит душа. Что же, конец борению? Нет, все еще борется со смертью, но это уже не зверь, а бог умирающий (Perrot et Chipiez. Hist. de l’Art, II, 541).
IX
«Основа бытия есть ужасное» (Шеллинг). Ужасное отвращает взор Египта, а взор Вавилона притягивает. Здесь, Египту непонятная, воля к ужасу.
Х
«Может быть, человек любит не одно благоденствие; может быть, он ровно настолько же любит страдание?.. А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти… Любить только одно благоденствие даже как-то неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь даже очень приятно… Я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется… Я ведь тут собственно не за страдание стою и не за благоденствие. Стою я — за свой каприз, и чтобы он был мне гарантирован, когда понадобится» (Достоевский. Записки из подполья).