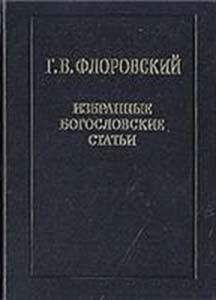Соловьев сам называл свое мировоззрение «философией цельного знания» и именно в таком качестве всеобъемлющего синтетического замысла противопоставлял его исторически сложившимся системам «отвлеченных начал». Не рискуя впасть в грубую ошибку, можно сказать, что Соловьев не признавал существования заблуждений. Ложность какого–либо суждения, утверждения или оценки заключается не в его положительном содержании, не в его природе (physis), а в его недолжном положении (thesis) в системе знания, т. е. в неполноте или односторонности. Ни один мыслитель, по оценке Соловьева, не заблуждался вполне, не высказывал лжи по существу; ошибочно бывало только превращение частичной правды в правду исключительную и всецелую. Одно и то же положение может быть и истинно, и ложно в зависимости от того, с какими другими оно сочетается. Поэтому Соловьев воспринимает в свое построение почти что все исторически сложившиеся учения, начиная Библией и кончая социализмом и теорией Дарвина. В его понимании и Бог именно оттого есть Истина, Добро и Красота, что Он абсолютен, безусловен, бесконечен, что Он «все Собою наполняет, объемлет, двигает, созидает», что вне Его нет ничего, иными словами, Он есть Всеединое начало, средоточие и цель всяческого бытия. Соответственно, и религия есть высшая истина именно потому, что она объемлет собою все и притом в надлежащей перспективе, — и, стало быть, то, что, будучи взято само по себе, в отдельности, было бы ложно, в религиозном контексте становится истинным.
Отсутствию абсолютной лжи соответствует отсутствие абсолютного зла. Опять–таки, по природе нет ничего злого, и дурным то или другое движение человеческой воли является не само по себе. «Я не признаю существующего зла вечным», — писал он, — «я не верю в черта». Зло заключается тоже в неправильном распорядке ценностей, в искажении перспективы. Соловьев усматривает сущность зла в постановке ограниченного на место безусловного, в утверждении самости, т. е. в отпадении от Всеединства. Зло, таким образом, не обладает подлинной реальностью, не есть даже нечто самостоятельное, а есть лишь искаженная форма Добра. И преодоление зла сводится не к его искоренению, а к разрушению его односторонности, к восстановлению нарушенных гармонических соотношений.
Но этого мало. Стараясь объяснить существование зла в мире, созданном и управляемом Премудрым и Всеблагим Творцом, Соловьев приходит к утверждению необходимости зла или греха. Миросозерцание Соловьева все насыщено духом историзма, заимствованным отчасти из немецкой идеалистической философии, отчасти из гностической мистики древнехристианской поры и предреформационного времени (в особенности у Якоба Беме). Основная идея этой историософии заключается в том, что вся история разумна и при этом в ней осуществляется некоторый доступный человеческому постижению план. Говоря кратко, разумный смысл временного бытия мира усматривался здесь в том, чтобы осуществилось свободное Всеединство. В силу творения мир осуществлял бы божественный план по принуждению, так сказать, насильно, целостность и единство были бы слепы и механичны. И нужно было, чтобы эта первозданная гармония распалась; чтобы все свободные существа довели до предела свое своеволие, испытали всю тягость неупорядоченного хаоса и уже свободным избранием, свободным актом самоотрекающейся воли вернулись к утраченному Всеединству. Иными словами, без грехопадения и отступления от Бога не мог мир стать тем, к чему его предназначал Бог. Именно не мог, ибо все происшедшее фактически было разумно, логически необходимо, не только для конечного разума, но и для Разума вообще, — и в качестве такового предвечно предусмотрено Богом.
Исторический процесс, следовательно, представлялся Соловьеву в виде изогнутой линии: сперва раздробление, распадение бытия должно было, нарастая, дойти до крайних пределов хаотичности, чтобы потом постепенно происходило вторичное объединение существующего. В конце стоит то же, что в начале: единство; но в начале было голое единство, а в конце единство синтетическое, единство многого, pan kai'en. История, по изображению Соловьева, есть «Богочеловеческий процесс», процесс постепенного установления Богочеловечества, глубинного и свободного единения Божеского и человеческого. Предустановленное предвечно в Софии как идеальной сущности тварного мира, оно вторично восстановилось в Богочеловеческой личности Христа. Но далее оно должно распространиться на весь мир, и в этом сущность христианской истории; здесь снова повторяется тройственный ритм: человечество должно снова отпасть от единства, снова пройти через бездны своевольного самоутверждения, чтобы на последок дней своих придти к совершеннейшему свободному Богочеловечеству, когда будет Бог всяческая во всем, и утвердится всесовершенное Царство Божие на земле, т. е. «полнота естественной человеческой жизни, соединяемой через Христа с полнотою Божества».
В этой идее Царства Божия получают крайнее свое развитие все основные идеи Соловьева. Это должна быть «полнота» человеческой жизни, т. е. вся человеческая жизнь, нисколько не урезанная, должна войти в завершающий мировой синтез. Ничто не будет выключено как недостойное, все будет освящено. Поэтому то будущее и рисовалось Соловьеву в ярких земных красках. И от века уготованное Царство оказывалось в его изображении земным государством, возглавляемым земным Царем, земным Первосвященником и земным Пророком. В этот момент Соловьев ставил точку и выходило, что именно об этом царстве обетовано, что ему не будет конца… И здесь Соловьев вполне сходился с теоретиками безбожного общественного идеала, тоже чаявшими преодоления всех жизненных дисгармоний здесь, а не там, за историческим горизонтом, у Отца светов… И так же, как они, веровал, в конце концов, в «естественное течение вещей», в незыблемые законы имманентного развития мира, «лучшего из возможных».
II
Соловьева часто обвиняли в пантеизме. Но не в этом лежал proton psendos его религиозно–философского построения. Грань между вечным безначальным и тварным, между безусловным и конечным никогда не стиралась в его сознании; и он неоднократно, даже с преувеличением подчеркивал противоположность этих начал. Коренной изъян его мироощущения заключался в другом, в полном отсутствии трагизма в его религиозном восприятии жизни. Грех он воспринимал слишком узко, одним умом, и для преодоления его ему не казалось нужным разрывать непрерывность естественного природного порядка. Мир представлялся ему в виде идеально построенного механизма, неуклонно и точно повинующегося безупречным законам, данным Всемогущим и Премудрым Творцом. Оттого его так привлекала эволюционная гипотеза, и он применял ее для… доказательства Воскресения Христова, его необходимости и, следовательно, реальности. Ведь его «ждет и томится природа».
Нравственный дуализм Добра и Зла воспринимался им слишком абстрактно, реальности «идеала Содомского» он не ощущал. Искушения и соблазны казались ему лишь необходимыми моментами осуществления свободы, неотразимость которого для него была обеспечена разумностью сущего, предвечным изволением Бога. И пред лицом неминуемого торжества всеобщего преображения исчезали живые конкретные личности человеческие, и все внимание оттягивалось в сторону отвлеченных форм общественного и космического бытия. Для Соловьева ценнее было соединение церквей, т. е. формальное объединение всех под единою теократической властью, чем спасение индивидуальной души, мятущейся и озлобленной. Идея дороже лица.
Нужно оговориться, — сказанное о Соловьеве относится лишь к первому периоду его жизни. В последние свои годы он прошел через трудный религиозный кризис, в очистительном огне которого сгорели все его гностические и теократические утопии. Он почувствовал не только остроту греховного жала в индивидуальной душе, но и реальность, самостоятельность зла как космического начала. Он ощутил катастрофический пульс истории и вместо посюстороннего Царства увидел «конец истории» — Страшный Суд и второе пришествие Христово.
«Все великое земное разлетается, как дым» — на этом откровении оборвалась его здешняя жизнь.
III
Соловьев, Толстой, Достоевский были предтечами и пророками того периода нового религиозного подъема, в который русская мысль после нескольких десятилетий безбожных и богоборческих блужданий вступила с началом нынешнего века. «Новое религиозное сознание» складывалось в «пылу освободительного движения», когда заветные, наследственные надежды, казалось, готовы были вот–вот осуществиться, — обстановка благоприятствовала возникновению утопий. И действительно, в возбужденном ожиданиями сознании «русская революция», — движение политическое и социально–экономическое по происхождению и своему непосредственному содержанию, — вырастала до размеров апокалиптического сдвига. Но это была хилиастическая, чувственная апокалиптика, совершенно не осязающая грани, hiatus'a между «здесь» и «там», пламенно «взыскующая града», но града здешнего. Идеал свободного всеединства повторялся здесь снова в других формах, но со всеми его прелестями и обольщениями. Религия должна стать всем, воспринять полноту человеческой жизни, плотяной и плотской, — для «богоискателей» этот постулат превращался в задание — совместить язычество с «историческим», «церковным» христианством, умирающего Пана с Воскресшим Христом. И, казалось, при дверях уже эпоха Третьего Завета, мистического Царства Духа. В нем должна сочетаться правда эллинского чувственного натурализма с правдою аскетического спиритуализма, свобода и святость плоти с свободою и святостью духа. — Соловьев ждал идеального религиозного государства, Мережковский, Гиппиус, Минский, Вяч. Иванов, Свенцицкий «богопьяной» (Gottgetrunken) анархической общины. И то, и другое одинаково — рай на земле. «Еще немного, еще одно усилие добра, — восклицал один из крупных представителей этого течения, Свенцицкий, — и раздвинутся своды небесные, мир содрогнется, как умирающий больной, и разом засияет новое небо над новой, прекрасной, нетленной, вечной землей».