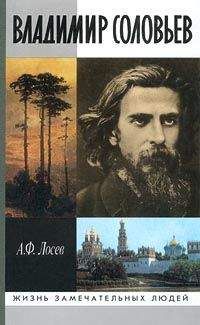К сожалению, один из старых маститых идеалистов, именно петербургский неокантианец Александр Введенский, в своей специальной работе о «мистицизме» и «критицизме» Вл. Соловьева[130] допустил весьма большую путаницу в этом серьезном вопросе, о которой мы сейчас должны дать себе полный отчет.
Претендуя на точность терминологии, А. Введенский прежде всего допускает весьма большую неясность в терминах, которыми он пользуется. Он бранится против тех, кто употребляет слово «мистицизм» в каком угодно и произвольном смысле. Но сам он, давая определение мистицизма, впадает в элементарную логическую ошибку іӓеш рег іӓеш. «Мистйцизм есть уверенность в существовании мистического восприятия»[131]. Правда, об этом «мистическом восприятии» кое‑что здесь же говорится, но говорится только отрицательно: это есть непосредственное восприятие и не внешнего мира, и не нашего внутреннего мира, а чего — неизвестно. Такое жалкое обращение с термином «мистицизм» не имеет ничего общего с Вл. Соловьевым, у которого мистицизм, как мы видели выше, есть просто учение о всеединстве, то есть о таком целом организме всех вещей, который является новым и общим качеством, несводимым к каждой отдельной вещи той мировой цельности. Введенский, повидимому, понимает мистицизм как нечто расплывчатое, беспредметное, субъективно–произвольное и мутное. Он не понимает того, что мистический предмет у Вл. Соловьева, а именно его всеединство, является вполне рациональным построением и сводится к учению о всеобщем организме, так что чистой иррациональности здесь даже и не видно. Следовательно, все, что А. Введенский говорит в этой статье о мистицизме Вл. Соловьева, не имеет к Вл. Соловьеву никакого отношения.
Так же поступает А. Введенский и с термином «критицизм», под которым он понимает только кантовскую гносеологию. Но такой гносеологией Вл. Соловьев никогда не пользовался; и что бы он ни заимствовал у Канта (например, учение об эмпирической данности и трансцендентальном методе), с метафизическим дуализмом Канта он тоже не имел никогда ничего общего; и какого‑нибудь учения более чуждого, чем это, Вл. Соловьев никогда не мог даже и найти. Неокантианская гносеология, правда, избежала дуализма, но зато превратилась в логицизм, а подобного рода учение было для Вл. Соловьева также неприемлемым.
Самое большее, что удается сказать А. Введенскому, это то, что Вл. Соловьев в своих статьях под названием «Теоретическая философия» очень долго останавливается на методическом сомнении, играющем такую важную роль в новой философии после Декарта. С этой точки зрения, Вл. Соловьев тоже рекомендует критически относиться ко всякого рода субъективным переживаниям и отнюдь не все их считать соответствующими той или иной объективной реальности. А. Введенский с большим удовлетворением и весьма пространно излагает подобные рассуждения Вл. Соловьева, но не говорит того, что это методическое сомнение трактуется у Вл. Соловьева только в виде необходимого орудия на путях достижения истины. А. Введенский подробно изложил первую статью из цикла «Теоретическая философия» под названием «Первое начало теоретической философии», но уже вторая статья из этого цикла, которую А. Введенский излагает, имеет совсем некантовское название «Достоверность разума». А тут как раз и доказывается Вл. Соловьевым и полная реальность человеческого Я, и всеобщая реальность логических процессов мышления (IX, 137).
И так как ничего специфически неокантианского указать у Вл. Соловьева невозможно, то А. Введенскому пришлось не больше и не меньше, как просто отступить от своего неокантианского понимания Соловьева и найти причину отсутствия у Вл. Соловьева какого‑либо неокантианства лишь в том, что Соловьев «не успел» прийти к нему и умер раньше времени. А. Введенский пишет: «Соловьеву оттого не удалось основать у нас мистическую философскую школу, что вследствие его преждевременной смерти он еще не успел до конца разработать свой мистицизм и последний остался у него в недосказанном виде, и притом в самом важном пункте»[132].
Таким образом, самому же А. Введенскому приходится признать, что никакого соединения «мистицизма» и «критицизма» в кантианском смысле слова у Вл. Соловьева найти невозможно.
Заметим, что в настоящем пункте нашего изложения мы не можем дать более или менее обстоятельной оценки теоретической философии Вл. Соловьева на последнем ее этапе. Такую оценку этого «нового» этапа теоретической философии можно дать только при помощи сопоставления Вл. Соловьева с окружавшими его философскими деятелями. Там и надо будет коснуться более подробно и мнения А. И. Введенского, и полемики Вл. Соловьева с Л. М. Лопатиным, и, главное, той специфики последнего его философского этапа, которую весьма оригинально и убедительно формулирует Е. Н. Трубецкой. Для настоящего раздела нашей работы, посвященного фактическому обзору соловьевского философско–теоретического творчества, сказано нами пока достаточно.
Правда, для соблюдения полной исторической добросовестности, кое‑что новое в «Теоретической философии» Вл. Соловьева все‑таки должно быть указано, хотя и без каких‑нибудь неожиданных вывертов у философа. Конечно, здесь он не дает развернутого учения о субстанции. Окончательная, последняя и абсолютная субстанция для него, как и прежде, остается Божеством. Но, например, в изображении той субстанции, которая называется человеком, здесь уже не находится никаких особенно возвышенных или торжественных признаков. Изображение человеческой личности начинается у него с описания самых простых и элементарных ощущений и с самых обыкновенных, всегда изменчивых и ненадежных человеческих переживаний. Что же касается личности в целом, то, по Вл. Соловьеву, она вовсе не дается в окончательном виде, существует всегда незаметно и туманно и скорее даже вовсе не дается как таковая, а только задается, только существует где‑то отдаленно в виде какого‑то идеала, а скорее даже только в виде какой‑то гипотезы. Между прочим, это учение возмутило Л. М. Лопатина, ближайшего друга Вл. Соловьева. Л. М. Лопатин разразился даже специальной статьей против Вл. Соловьева, о чем нужно говорить отдельно. Правда, некоторые черты разочарования, пессимизма и подавленности, как мы видели выше, безусловно, характерны для последних лет жизни Вл. Соловьева.
Эволюцию взглядов Вл. Соловьева на категорию субстанции С. М. Соловьев (его племянник), указывая на растущее в конце жизни Вл. Соловьева ослабление интересов философа к категории субстанции, описывает так:
«В последние годы Соловьев занялся пересмотром и исправлением своей гносеологической и метафизической системы и думал о переработке "Критики отвлеченных начал". Он успел написать только три первые главы "Теоретической философии", но эти главы свидетельствуют о высоком подъеме философского творчества. В своей гносеологии Соловьев решительно отталкивается от Декарта и отрицает субстанциальность души. "Самодостаточность наличного сознанйя как внутреннего факта не ручается за достоверность сознаваемых предметов, как внешних реальностей, но нельзя ли из этого сознания прямо заключить о подлинной реальности сознающего субъекта‚ как особого самостоятельного существа или мыслящей субстанции? Декарт считал такое заключение возможным и необходимым, и в этом за ним доселе следуют многие. И мне пришлось пройти через эту точку зрения, в которой я вижу теперь весьма существенное недоразумение…" (IX, 107—108). "Возвратившись в последнее время к пересмотру основных понятий теоретической философии, я увидел, что такая точка зрения далеко не обладает тою самоочевидною достоверностью, с какою она мне представлялась" (IX, 126). Резкий отзыв о Декарте мы находим уже в 1888 году в письме к Страхову: "Вы верите даже (или притворяетесь, что верите) жалким глупостям Декарта и Лейбница" (Письма, т. I, с. 56). Выше ставит Соловьев послекантовскую философию. "Великое достоинство гегельянства в том, что и бессмысленная 'субстанция' догматизма и двусмысленный 'субъект' критицизма превращены здесь в верстовые столбы диалектической дороги. Картезианская 'душа' перешла в кантианский 'ум', а этот растворился в самом процессе мышления, не становясь, однако, и у Гегеля разумом истины" (IX, 163—164). Окончательно оттолкнувшись от картезианского догматизма, Соловьев относится с большим сочувствием, чем в юности, к позитивизму и английской эмпирической психологии. "Я не сторонник этой психологии как системы, но я вижу, что она начинается с того, с чего следует начинать — с бесспорных данных сознания, а между ними нет ни 'мыслящей субстанции', ни безусловного самопоглощающегося или самоначинающегося деяния. Наличные состояния сознания как такие — вот что действительно самоочевидно и что дает настоящее начало умозрительной философии…" (IX, 384).