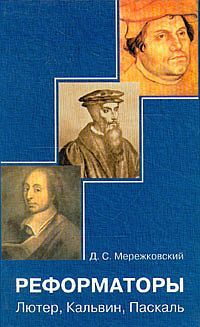«В доброй войне (на защиту родины), — учит Лютер, — долг христианской любви истреблять врагов беспощадно, грабить и жечь их по законам войны… потому что сам Бог помогает сильному».[471] Самое страшное здесь то, что это говорится так спокойно или как будто спокойно, безболезненно, и что Лютеру в голову не приходит вопрос о том, нет ли опять-таки возможных путей от вечной войны — несомненного царства дьявола — к вечному миру — столь же несомненному началу царства Божия.
«Война исполняет призвание божественное», — учит Лютер.[472] Но ведь точно то же мог бы сказать и Томас Мюнцер о «священной» для него войне — восстании бедных, угнетенных, на богатых, угнетающих. «Надо убивать господ, как бешеных собак», — учит Мюнцер; «Надо убивать рабов, как бешеных собак», — учит Лютер: одно другого стоит.
О, если бы в этих противоречиях был только Лютер против Лютера! Но в них как будто и Христос против Христа, Бог против Бога.
Сколько бы Лютер ни закрывал на это глаза, он не мог этого не видеть, а если даже и не видел, то чувствовал. Бывали, вероятно, такие минуты, когда в муке этих противоречий, два диавола — один, хулящий Отца в Законе, другой, хулящий Сына в Свободе, — терзали душу его, как те два палача Иоганна Лейденского, которые ему поочередно, то справа, то слева, рвали ребра раскаленными докрасна железными щипцами.
«О, зачем я не умер, зачем я не умер» — может быть, думал он и в Виттенберге, как в Вартбурге, и вспоминал тот темный, мышиный чулан с крюком в потолке и валявшейся в углу веревкой. Чтобы в петле, на крюке затянутой, шейные позвонки хрустнули, нужно было двадцать секунд, а в диавольской петле противоречий нужно будет для того же двадцать лет.
36
Двадцать лет будет он умирать заживо. Через год после Крестьянской войны, в самом начале 1527 года, тяжело заболел какой-то, врачам и ему самому непонятной, болезнью. Как бы духовно, метафизически ранен был в самое сердце, и рана эта становится физической: «Точно сгусток крови остановился у меня около сердца, и я едва от этого не умер».[473] «Эта болезнь неестественна; она подобна тому, о чем говорит ап. Павел (2 Коринф., 12:7): „Послан мне ангел сатаны — мучить меня, душить меня“.[474]
После этой болезни уже не мог оправиться, и в сорок четыре года он уже почти старик:
Напрасно ты металась и кипела,
Развитием спеша;
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа.
Баратынский
Если не вся душа отнялась у него, как рука или нога у параличного, то главная часть души — воля. В эти двадцать лет действует в нем страшный закон физической и духовной косности, инерции; он уже не деятель, а только созерцатель событий. Дело его продолжается, но помимо него и даже иногда вопреки ему. Он уже ничего не делает, а с ним только делается все. „Ты двигать думаешь, но движешься ты сам“, — мог бы сказать бес и доктору Лютеру, как доктору Фаусту».[475]
Медленно двигается — катится по наклонной плоскости. «Под гору, под гору!» Это чувствует он сам, и все, кто живет с ним, за эти двадцать лет.
Ложку дегтя влил диавол в бочку Лютерова меда. В жизни его мед, конечно, остался, но сквозь сладость его чувствуется отвратительная горечь дегтя во всем.
«О, если бы я мог найти такой огромный грех, чтобы диавол, наконец, понял, что я не боюсь никакого греха!» Этот грех Лютер нашел, но, совершив его, испугался. Им-то и душил его диавол двадцать лет, «напоминая, что следствием проповеди его было восстание крестьян» и мнимое Царство Божие в Мюнстере.
Двадцать лет умирает во сне; хочет проснуться и не может; пробуждением будет смерть.
Чтобы увидеть и понять, что произошло с Лютером между 1525 и 1535 годами, между Крестьянским восстанием и падением Мюнстера, стоит только сравнить два лица его — первое, до этого десятилетия, и второе — после него. Длинный и тонкий, как хворостина, такой худой, что «казалось, можно бы пересчитать все кости его», инок-подвижник с изможденным, смуглым, точно обожженным, лицом и таким пронзительным взором огненных «демонских» глаз, что «трудно было вынести», — вот первое лицо,[476] а вот второе: белое, пухлое, точно водянкой раздутое, болезненно-желтым, старческим жиром залитое, с отвислыми щеками и двойным подбородком, с только изредка загорающимся прежним огнем, а большей частью, потухшими сонными глазами; старая, толстая эйслебенская баба или старый, огромный, осклизлый, в Тюрингском лесу, на куче прелых листьев, загнивающий гриб.[477] Между этими двумя лицами и затянулась мертвая петля диавола на шее Лютера — неразрешимые для него противоречия в Боге, — Сына против Отца и Отца против Сына, — то искушение, о котором он говорит с такой ужасающей точностью: «Бог для нас хранит великие искушения… в которых мы уже не знаем, не диавол ли Бог, и не Бог ли диавол».[478]
37
Кажется, первой, как бы геометрической, во времени, точкой Лютерова медленного скатывания, движения вниз — «под гору, под гору» — был первый или второй час пополудни 9 октября 1524 года — самый канун Крестьянского восстания. Утром еще, в монашеской рясе, он служит обедню и проповедует в церкви, а потом скидывает рясу и надевает светское платье — черный, на меху, докторский плащ, сшитый из прекрасного, курфюрстом Саксонским, Фридрихом Мудрым, подаренного ему сукна, и плоскую, черного бархата, докторскую шапочку-берет. «Я сшил себе и надел это платье, — хвалится он, — во славу Божью… и на зло Сатане».[479]
Видеть это переодевание могла жившая в доме Лютера, опустевшей Виттенбергской обители Августинского братства, вместе со многими другими монахинями, Катерина фон Бора, молодая девушка двадцати шести лет, с правильным, плоским, холодным, обыкновенным лицом, с большими глазами, прозрачно-ясными и простодушными, как у ребенка. Так же, как многие другие мудрые и глупые девы по всем женским обителям Германии, убежденная проповедью Лютера против монашества, бежала она полгода назад из Нимбшенской обители (Nimbschen), вместе с двадцатью другими сестрами. Выскочила ночью из невысоких окон в монастырский сад, перелезла через стену и, чтобы выбраться потихоньку из города, спряталась в пустую бочку из-под пива на проезжавшем возу.[480]
13 июня 1525 года, в самый разгар Крестьянского бунта, Лютер женился на Катерине, зная, что она несчастно любит другого — молодого виттенбергского студента, который легкомысленно покинул ее; но это не помешало Лютеру, потому что он не любил ее, а только «жалел», как сам признается: «Богу было угодно, чтобы я ее пожалел, и это хорошо кончилось».[481] Может быть, не так хорошо, как ему сначала казалось.
«Я женился, да еще на монахине. В этом не было особенной надобности: я мог бы и воздержаться. Но я это сделал, чтобы подразнить диавола и весь его змеиный выводок — мешающих людям жить государей и епископов. Я был бы очень рад, если бы мог произвести еще больший соблазн, делая то, что Богу угодно, а безбожников приводит в ярость».[482]
К свадебному пиру выписал жених бочку торгаузского пива от того пивовара, на чьем возу спряталась Катерина в бочке, когда бежала из монастыря.[483] «Пенорожденные обе, — мог бы воспеть ее кто-нибудь из бывших на том пиру гуманистов-поэтов, — древняя богиня из пены морской, а Катерина — из пены пивной».
«Если этот монах женится, то диавол и мир посмеются над ним», — говорили католики и ждали, что от этого «гнусного сожительства» монаха-расстриги с беглой монахиней «родится Антихрист».[484]
«Люди меня за этот брак презирают, но я знаю, что Ангелы радуются ему, а бесы плачут». «Богом самим дана мне Кэте», — хвалится Лютер.[485]
Катерина — добрая хозяйка, бережливая, даже скупая, добрая мать, вечная сиделка вечно больного мужа. Стряпает на кухне, моет пеленки, правит домом, сажает, строит, покупает, продает, унавоживает поля, откармливает свиней.[486] «Моя Катерина — ребро мое, цепь моя, Catena mea, мой господин Кэте, dominus meus Kathe, мой владыка и законодатель Моисей»,[487] — продолжает Лютер хвалиться, «назло Сатане», но умалчивает о главном — о том, что брак для него не великое христианское Таинство, как для ап. Павла — «Тайна сия велика», — а только исполнение гражданского и естественного закона.[488] Признаки пола — «почетнейшие и прекраснейшие члены нашего тела»; но вследствие греха сделались «гнуснейшими».[489] «Брачная любовь — такая же для нас необходимость, как пить, есть, плевать и облегчать желудок». Но это «все же грех, и если Бог все же не винит людей, то лишь по милосердию своему». Брака иногда не отличает Лютер от блуда: «Если твоя жена отказывается спать с тобой, возьми служанку».[490] «Блуд происходит от закона… вот почему мы любим продажных женщин больше, чем жен», — говорит он с почти невероятною для такого человека, как он, циничною грубостью.[491]