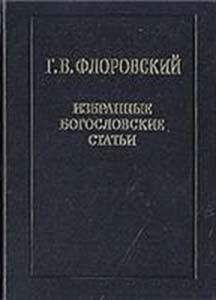Познать истину в подлинном и глубочайшем смысле, это значит не скопировать или пассивно отобразить в своем сознании что–то, стоящее вне познающего и ему в существе своем чуждое и безразличное. Познать истину значит — стать истинным, т. е. осуществить свое идеальное, предвечное Божественное назначение или, как выражается В.Ф. Эрн, найти и выявить свой «софийный лик», найти свое подлинное «место во вселенной и Боге». «Истина», по его выражению, «может быть доступна человеку только потому, что в человеке есть место Истине», т. е. он есть образ Божий, и ему доступен бесконечный и постоянный рост в осуществлении вечной идеи своего существа. Единственный путь истинного ведения это путь христианского подвижничества. Познать истину может лишь тот, кто раскроет в себе «внутреннего человека», кто станет тем, чем ему предназначено быть таинственным изволением Божиим и чем он был бы, если бы не было грехопадения.
VI
Таковы предельные достижения русской религиозно–философской мысли.
Начав замыслом всеобъемлющего религиозного синтеза, приятия и освещения всей жизни в ее теперешнем, эмпирически–данном виде, она кончает полным отречением от мира и всего, «еже в нем», тем более полным, что оно совершается не во имя отрицательного нравственного значения «мира», а во имя его полной бесценности. Борьба со злом переносится в новую плоскость: религиозно воспринимаемое зло отлично от того, что признается злом в пределах «естественной» жизни — мы видели, что знание, мудрость есть зло пред судом веры. И в глубинах религиозного сознания совершается духовный нравственный подвиг: отречение от своего разума, от «понимания» — его первый шаг; откровение — его содержание.
В исходном пункте — ощущение божественного элемента в человеческом разуме; в заключительном прозрении — исповедание тщетности и суетности человеческой мудрости. «Проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которой никто из властей века сего не познал… А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божий» (I. Кор. 2:7, 8, 10).
Мы бесконечно далеки от того, чтобы приписывать значение безусловной, канонической достоверности результатам и достижениям русского религиозного искания. Но необходимо признать принципиальную правильность вновь избранного пути. Его сила не в самоутверждении логического познания, а в смирении самоотречения пред тайною Божией и в жажде подвига. И не рискуя ошибиться, можно сказать, что один, по крайней мере, совершенно не подлежащий сомнению урок вынесла из этого процесса исканий и борений православная богословская мысль: за образец и источник вдохновения христианское умозрение должно брать не те богодухновенные начальные слова Благовестия Евангелиста–Богослова, которыми вдохновлялась святоотеческая мысль первохристианской эпохи, а, так сказать, более элементарные, ближе подходящие к ограниченным силам падшего создания слова, которые писал коринфской церкви Апостол Языков. На вершинах Богомудрия ощущается и осязается Логос, раскрывается Премудрость Божия. Но начинать сразу с таких высот и непосильно, и небезопасно. В начале должно стоять покаянное сознание немощи своего разумения, «трепет тайны».
Ибо написано: «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну» (Ис. 29:14)… потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков»(Кор. 1:19,25).
Печатается по первой публикации на русском языке:
«Младорус», София, 1922, № 1, с. 50–62.
«ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ СТРАДАНИЕ»
Критика экуменических воззрений Льва Зандера
Очевидно, в короткой заметке невозможно адекватно выразить все сомнения и возражения, которые возникли у нас при первом же беглом просмотре этой книги. Внимательное рассмотрение ее только усиливает первоначальное недовольство. Перед нами очень личная книга. Для Православия она никак не типична. Это в каком–то смысле «голос с Востока» — однако то, что он говорит, нельзя назвать ни «Восточным», ни «Православным».
Автор вырос и воспитан в некоей определенной традиции, и его отношение к «Экуменической Реальности» ярко окрашено особыми убеждениями и предпочтениями. Большой вопрос, — насколько сочетаются эти убеждения с основными положениями Православной Веры. Мало того, можно усомниться, сочетается ли концепция «экуменизма», предлагаемая автором, с главными принципами исторического экуменического движения. Кажется, автора не слишком интересуют ни «Вера», ни «Устройство». Он предпочитает перешагнуть через догматы, каноны и обряды. «Экуменизм», по словам автора, в сущности, понятие мистическое. Он не связан со «внешними событиями» и не заинтересован в исторических результатах. «Единство, которое он ставит своей целью, есть единство в любви, нереализуемое ни в какой исторической форме, но лишь обещанное нам в жизни будущего века» (стр. 44). В этом смысле Экуменизм оказывается «предчувствием Царства» (стр. 222). Экуменизм по существу своему парадоксален и паралогичен. «Экуменизм возможен только против всякой логики, или, точнее, независимо от логики» (стр. 38). Исторические надежды обманчивы и приносят только разочарование. Даже богословская дискуссия не может принести плода. Упражнения в «сравнительном богословии» только углубляют раскол. «Такую работу едва ли можно назвать экуменической» (стр. 210). Исцеление раскола в истории невозможно, и стремиться к нему не следует.
Автор не верит в возможность какого бы то ни было экуменического прогресса на уровне истории. Он призывает читателей к «эсхатологическому видению»; призывов же к трезвым и ответственным действиям в книге не видно. Можно усомниться: не есть ли это «видение» всего лишь мечта? «Эсхатологическая интерпретация, с другой стороны, независима от любых исторических неудач. Перспектива «вечного разделения» ее не пугает; вся история Церкви есть история разделений, и ее нельзя рассматривать иначе, чем как предисловие к ненаписанной книге единства; историческая трагедия Христианства кроется в неустранимой человеческой греховности — и эта греховная реальность станет объектом вечного преображения и будущей парусии» (стр. 45). Автор, очевидно, не замечает того факта, что «видимое единство» и особенно «единство в вере» являются, согласно новозаветному учению, одним из признаков Церкви, и что Церкви назначено Христом быть «столпом и утверждением истины». Это вопрос не «неизбежного» прогресса, но, скорее, долга и задачи.
Интересно сравнить утверждения автора с тем, что недавно было высказано по поводу Экуменизма другим автором, чья книга вышла почти одновременно с той, которую мы сейчас обсуждаем. Это эссе Вильяма Николса «Экуменизм и Католичество», получившее премию Норриса (SCM Press Ltd., Лондон, 1952). Сравнение возможно, так как оба автора отталкиваются от одинакового «опыта» и основываются на одном и том же фундаменте (WSCF). Однако мистер Николс, очевидно, отличается более глубокой богословской подготовкой и лучшим пониманием Церкви. Так, он говорит: «Разделение между христианами не является необходимым следствием их исторического существования. После Христа грех и история уже не равны друг другу. Грех — факт христианской истории, возможно, постоянный факт, но никак не «неизбежный». экуменическое движение напоминает нам, что такое положение дел крайне ненормально и нетерпимо. Его движение к единству в истории есть дело покаяния» (Николс стр. 54–55).
Именно этот дух покаяния начисто отсутствует в рассматриваемой нами книге. «Разделенное Христианство» рассматривается как неизбежный и неоспоримый исторический факт. Вообще говоря, автор защищает весьма странный род «Экуменизма». Движущей силой экуменических стремлений ранее был отчаянный поиск «Воссоединения Христиан», поиск «общего разума». Возможно ли достигнуть этой цели в истории, и годятся ли для этого средства и методы, принятые экуменическим движением — другой вопрос. В любом случае, экуменическое движение стремилось прежде всего к Единству Церкви. И именно это стремление автор отвергает. Он защищает «Единство без Единства», то есть Единство в разъединении, в несогласии. На историческом уровне никакое согласие невозможно, и все попытки добиться согласия, если верить автору, тщетны и даже опасны. Автор весьма красноречив в своих обличениях «прозелитизма», который он отождествляет с «обращением». Каждый должен оставаться в той конфессии, где ему выпало родиться или прийти к вере. Согласно автору, «необходимым постулатом экуменической реальности» является не только воздержание от «прозелитизма» (в обычном, уничижительном значении слова), но и от всяких богословских споров, поскольку последние будто бы являются замаскированной формой духовного давления и насилия. «На практике это означает, что, видя моего брата в заблуждении, я не пытаюсь объяснить ему его ошибку или вывести его на путь истины» (стр. 113). Споры о вере — «не больше чем шахматная игра» (стр. 110). И все это называется «высшей степенью экуменической любви». Что это: яркий образец «окамененного нечувствия», или просто полное отсутствие любви как к «заблуждающемуся брату», так и к Кафолической Истине?