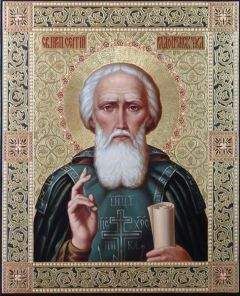К Феофилу, епископу Александрийскому
Письмо твое, показывая, что ты обладаешь наследием Господа, Которой, отходя к Отцу, говорил апостолам: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин. 14, 27), свидетельствует, что ты причастен и Его блаженства, так как именуются блаженными и миротворцы. Ты ласкаешь как отец, вразумляешь как учитель, наставляешь как первосвященник. Ты явился к нам не с наказующим жезлом, но в духе любви, кротости и смирения, так что прежде всего уже в слове своем ты отобразил смирение Христа, Который спас род смертных не перунами и громами, а плачем в яслях и молчанием на Кресте. Ибо ты читал, что сначала в прообразе Его было предсказано: Помяни, Господи, Давида и всю кротость его (Пс. 131, 1) и что потом осуществлено было в Нем Самом: Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11, 29). Поэтому, многое собирая из священных книг в похвалу мира и облетая, подобно пчеле, по различным пажитям писаний, в художественном слове своем ты пожал все, что было там сладкого и направленного к миру. Итак, во время борьбы мы призываемся к миру; распущенные для плавания паруса надуты свежим ветерком твоего увещания, так что не столько недовольными и гордыми, сколько гордыми и полными устами мы пили сладкие потоки мира.
Но что же нам делать, если в нашей власти только желать мира, а не водворять оный? И хотя и желание имеет у Бога свою награду как намерение, но не совершённое дело и желающих сокрушает печалью. И апостол, зная это, говорит, что совершеннейший мир утверждается при желании той и другой стороны: Если возможно с вашей стороны, говорит он, будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12, 18). И пророк говорит: мир, мир; и где же мир? (см.: Иер. 4, 10). Не велика заслуга и меть мир на словах и разрушать его на деле; стараться об одном, а показывать другое; на словах провозглашать согласие, на деле требовать рабства. И мы хотим мира, и не только хотим, но и просим; но мира Христова, мира истинного, мира без вражды, мира, в котором не скрывались бы ссоры, мира, который не порабощал бы как врагов, но соединял бы как друзей. Зачем порабощение мы называем миром и не даем каждому предмету своего имени? Где есть ненависть, там пусть упоминают о вражде; где любовь, там и только там пусть говорится о мире. Мы не рассекаем Церковь и не отделяемся от общения отцов, но от самых, так сказать, колыбелей напитаны млеком Православия. Ибо никто столько не принадлежит к Церкви, как тот, кто никогда не был еретиком. Но без любви мы не знаем мира, без мира не знаем общения. В Евангелии читаем: Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что–нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф. 5, 23–24). Если без мира мы не можем приносить даров своих, то не тем ли более — принимать Тело Христово? С какой совестью приступлю я к Евхаристии Христовой и буду отвечать «аминь», когда сомневаюсь в любви преподающего?
Прошу тебя терпеливо выслушать меня и истину не считать лестью. Имеет ли кто–нибудь общение с тобой против воли? Простирая руку, отворачивает ли кто–нибудь лицо и во время Святой Вечери дает ли целование Иудино? Я полагаю, что при твоем прибытии монахи не трепещут, а радуются, когда наперерыв выходят тебе навстречу и, выходя из пустынных убежищ, стараются превзойти тебя своим смирением. Кто побуждает их выходить? Не любовь ли к тебе? Кто собирает воедино рассеянных по пустыне? Не преданность ли к тебе? Ибо как отец должен любить, так отец и епископ должен быть и предметом любви, а не страха. Старая мысль: «Кого кто боится, того ненавидит; кого ненавидит, тому желает погибели» (Цицерон). Поэтому и в наших писаниях хотя начатки несовершенных полагаются в страхе, но совершенная любовь изгоняет страх (1 Ин. 4, 18). Ты не требуешь от монахов подчинения себе и оттого более подчиняешь их. Ты целуешь их, они подклоняют выи. Ты представляешь собой простого воина и требуешь вождя, как бы один в числе многих. Свобода при угнетении скоро возмущается. От свободного никто не выигрывает более, как тот, кто не принуждает к рабству. Я знаю правила Церкви; известны мне определения каждого из них, и чтением и ежедневными примерами до сих пор я многое узнал, многое испытал. Кто бьет скорпионами и думает, что персты его толще чресл отца, тот скоро расточает царство кроткого Давида (см.: 3 Цар. 12, 10–11). Римский народ не потерпел гордости и в царе. Тот вождь израильского войска, который поразил Египет десятью казнями и которому служили и небо, и земля, и моря, представляется самым кротким из всех людей, каких тогда производила земля. И потому–то он и сохранял власть в продолжение сорока лет, что высоту власти умерял смирением и кротостью. Народ готов побить его камнями, а он молился за побивающих, он даже хочет быть изглаженным из книги Божией, лишь бы не погибло вверенное ему стадо. Он хотел подражать Тому Пастырю, о Котором знал, что Он понесет на раменах Своих и заблудших овец. Пастырь добрый, говорит этот Пастырь, полагает жизнь свою за овец (Ин. 10, 11). И ученик этого доброго Пастыря желает быть отлученным за братьев своих и сродников своих по плоти, то есть израильтян (см.: Рим. 9, 3–4). И если он желает погибнуть, чтобы не погибли погибшие, то не тем ли более добрым отцам должно заботиться, чтобы не раздражать чад своих и излишней строгостью не ожесточить даже самых кротких?
Письмо требует краткости, а огорчение заставляет писать пространнее. В своем миролюбивом, как он говорит, но, как я думаю, самом язвительном письме он пишет, что я никогда не оскорблял его и не называл еретиком. Зачем же он сам оскорбляет меня, обзывая меня зараженным самой опасной болезнью и возмутителем Церкви? Зачем он, будучи раздражен другими, хочет щадить врагов и оскорблять невинного? Он говорит, что до рукоположения брата моего (Павлиниана) между ним и святым папой Епифанием не было никакого спора о догматах. Что же побуждало его всенародно рассуждать, как он сам пишет, о том, о чем никто не спрашивал? Ибо мудрость твоя знает, что споры подобного рода опасны и что безопаснее всего молчать, если почему–нибудь нет необходимости говорить о предметах важных. Справедливо ли, что он стал таким великим умом и такой рекой красноречия, что говорили, будто бы он в одном трактате о Церкви обнял все, о чем порознь о каждом предмете ученейшие люди написали бесконечные тысячи стихов? Впрочем, какое же мне до этого дело? Пусть знает тот, кто слышал, ведает тот, кто написал, и пусть он сам освободит меня от обвинения его. Я не был при этом и не слыхал. Я один из всех, даже и не я один молчал, когда многие кричали. Сравним лица истца и ответчика и поверим больше тому, кто окажется выше или по заслугам, или по жизни, или по учению.
Видишь ли, что я, как говорится, закрыв глаза, общо говорю об этом деле, не столько высказывая то, что знаю, сколько показывая то, о чем хочу умалчивать. Я понял и одобрил твою осторожность — что, заботясь о мире церковном, ты обходишь эти споры, как песни сирен, закрыв уши. С малых лет изучив Священное Писание, ты знаешь, в каком смысле нужно говорить о том или другом, знаешь, каким образом в мнениях спорных твое взвешенное слово должно и не осуждать чужого, и не отвергать своего. Но чистая вера и открытое исповедание не нуждаются в изворотах и словоизвитиях. Во что просто веруется, то должно быть и исповедуемо просто. И я легко мог возвысить голос и среди войны и вавилонских огней сказать: зачем не на то отвечают, о чем спрашивают, зачем исповедание не просто, не искренне? Оно всего боится, ограничивает, все оставляет двусмысленным, движется как будто на иглах. Но при желании и ожидании мира и во время волнения страстей, отвечает он, не спрашивают: каким образом? Его безнаказанно ругают другие, которых сам он, поруганный, поносить не смеет. Я между тем молчу: свою расчетливость теперь буду представлять или невежеством, или страхом. Что он сделает мне, если я буду его обвинять, когда он, как сам говорит, бранит меня, когда я хвалил его?
Все его письмо наполнено не столько изложением дела, сколько ругательствами против меня. Имя мое часто выставляется и без всяких приличий, какими мы, люди, обыкновенно приветствуем друг друга, подвергается ругательствам, поносится, как будто я изглажен из книги живущих, как будто его письма могут замарать меня; или как будто я когда–нибудь занимался подобными пустяками, я, который с молодых лет, запершись в стенах монастырских келий, желал более быть чем–нибудь, чем казаться. Стем, чтобы уязвить, он дает некоторым из нас почетные названия — как будто и мы не можем говорить о том, о чем никто не молчит. Злословит клирика, рукоположенного из рабов, тогда как и сам не имеет таких клириков; пусть прочитает он, что и Онисим, возрожденный во время уз Павловых, сделался диаконом из рабов (к Филимону). О, если бы и я мог говорить, о чем многие кричат, и находить удовольствие в ругательствах! Тогда бы он понял, что и я знаю то, что знают все, и что я слышал о том, что известно всякому. Он говорит так, как будто ему назначена награда за клевету. Кто не устрашится такого едкого и проницательного ума? Кто в состоянии отвечать такой реке красноречия? Что выше: переносить клевету или клеветать? Обвинять того, кого после полюбишь, или прощать грешника? Что легче перенести: то ли, что клеветник делается едилем, или что он делается консулом? И сам знает, о чем я умалчиваю, о чем говорю, что слышал и — чему, быть может, по страху Христову не верю…