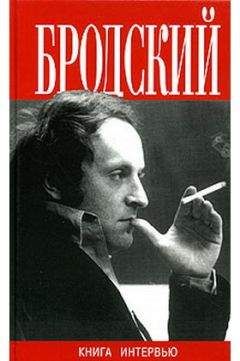И вот здесь мне хотелось бы предложить вопросы, которые введут нас в тему сегодняшнего доклада: Что такое богословие? Что подразумевается под ученой степенью бакалавр богословия? Где в этом столь высоком и вместе с тем необычном звании ключевое слово? Может быть, первое звание, изменяемое в процессе академического роста с бакалавра на более уважаемые магистр и доктор? Или второе, которое остается неизменным спутником первого? В зависимости от акцента становится понятной и наша позиция в отношении смысла и предназначения богословия.
Большинством богословие воспринимается как некая сумма знаний, которая служит инструментарием для исследования и объяснения духовных предметов. Примечательно то, что эти предметы рассматриваются только в контексте известных реалий и признаков. В особенности, когда речь заходит о краеугольном камне богословия, который опознается в самом его названии — о Боге. Вот как об этом писал Лев Шестов: «Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, — он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым Ему разумом основным «принципам». Бог доказанный, какими бы предикатами — и всемогущества и всеведения, и всеблагости — не наделял Его разум, уже был Бог по милости разума»[72].
Хотя богословие и начинается с соприкосновения с тайной, тем не менее, оно пытается освободиться от всякого рода непонимания. Здесь срабатывает принцип — «понятное мы принимаем, а что сверх того, то от лукавого». Но в таком случае сам процесс познания приобретает схоластичный привкус. И такое знание, в смысле его академичности, не дает нам тишины душевной. Скорее утомляет, а порою даже пугает нашу ограниченность. «Людям не нужны вечность и беспредельность, люди ищут ограниченности»[73]. К сожалению, эти слова нередко можно адресовать и к нам, к богословам. Мы ищем и творим в строго отведенной территории. И только по известным и получившим одобрение правилам. Нестандартность становится чуждой общепринятому шаблону. Казалось бы, именно здесь должен быть необозримый простор для духовного роста и познания. И слово «запрет» впору бы заменить на «благоговейное умолчание перед неведомым». Ведь истина по удачному высказыванию Шестова «рождается в глубочайшей тайне и одиночестве. Она не только не требует, она не допускает присутствия посторонних. Поэтому она не выносит доказательств, и больше всего боится того, чем живут обыкновенные эмпирические истины, признания человеческого и окончательной санкции»[74]. Но ведь беда, избегая запретов и ища свободы мы поставили запрет во главу угла. Поэтому все, что находится за гранью санкционированности является непопулярным и даже опасным. Прямо таки синдром «человека в футляре», который по всякому для него непонятному случаю любил говорить: «Оно, конечно, так–то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло»[75]. Поэтому и не модно нынче говорить просто о сложном, а наоборот, чем сложней тем достоверней. Вспомните слова чеховского героя барона Тузенбаха: «Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение вдруг, ни с того ни с сего. По–прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками и все же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться»[76].
Конечно же, человек не только созерцает и сопереживает, но и мыслит, раскрывая себя в слове и в действии. И в этом смысле справедливо звучат слова протоиерея Александра Меня: «отказ от понятий и слов идет против человеческой природы, против потребности людей осмыслить жизнь и опыт»[77]. Несомненно, нужна определенная форма, выполняющая функцию хранилища содержания. Важен баланс. В противном случае будут утеряны оба. Подобная ситуация красиво описана Достоевским: «несут сосуд с драгоценной жидкостью, все падают ниц, се целуют и обожают сосуд, заключающий эту драгоценную живящую всех влагу, и вот вдруг встают люди и начинают кричать: «Слепцы! Чего вы сосуд целуете: дорога лишь живительная влага, в нем заключающаяся, дорого содержимое, а вы целуете стекло — идолопоклонники… забываете про драгоценное содержание! Бросьте сосуд, разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!». И вот разбивается сосуд, и живящая влага, драгоценное содержимое, разливается по земле. Чтобы что–нибудь спасти, что уцелело в разбитых черепках, начинают кричать, что надо скорее новый сосуд, начинают спорить, как и из чего сделать. Спор начинается уже с самого начала и тотчас же, с самых первых слов, спор уходит в букву. Этой букве они готовы поклониться еще больше чем прежней. Спор ожесточается, люди распадаются на враждебные между собой кучки, и каждая кучка уносит для себя по несколько капель остающейся драгоценной влаги в своих особенных разнокалиберных, отовсюду набранных чашках, и уже не сообщаться впредь с другими кучками. Каждый своей чашкою хочет спастись»[78]. Так, проявляет себя извечный конфликт между формой и содержанием в христианском богословии. Мне хочется перейти непосредственно к теме моего доклада.
В наше время, главная задача православного богословия как раз заключается в том, чтобы освободиться от ложного содержания и громоздкой формы. Вот как об этом пишет Иоанн Мейендорф: «первоочередная задача состоит в том, чтобы истинно осмыслить и заново открыть роль единого святого Предания Церкви в отличие от лжеабсолютных и человеческих преданий… Высвободить священное Предание из человеческих, стремящихся его монополизировать, есть по существу непременное условие его сохранения»[79].
Как известно, родоначальником христианской систематики традиционно считаются александрийцы Климент Александрийский и Ориген. Еще один важный момент, который хочется отметить, это то, что само слово «богословие» в Священном Писании просто отсутствует. Это не библейское понятие. «Потребность богословствовать в Церкви, — отмечает в своем докладе священник Георгий Чистяков, — возникла, прежде всего, из внутреннего почина, из потребности внутренней духовной жизни, из необходимости ее»[80]. Конечно же, существует еще целый ряд причин возникновения богословия, здесьи зашита веры от еретиков, и созданная система оглашения взрослых, и школы по подготовки катехизаторов и многие другие.
Что такое богословие с православной точки зрения? По справедливой мысли профессора Афинского Университета Афанасия Деликостопулоса: «Богословие — это слово об открывшемся Боге; оно говорит о Нем и происходит прежде всего от Него»[81]. Эпоха учителей древней Церкви нередко именуется как «богословие на коленях». И, наверное, это не случайно. Евагрий Понтийский, опознавал суть богословия в молитве: «тот, кто богослов, воистину молится, и тот, кто молится, воистину богослов». А отсюда и постоянное молитвенное состояние, когда люди, имеющие все необходимое для создания формы, преклонялись перед непостижимой разуму Божественной Тайной. И начинали свой поиск с покаяния. Становится понятным и высказывание святителя Григория Назианзина: «бого–словствовать надо только как грешник, не как Аристотель». Такой подход к постижению Откровения, удачно определен иеромонахом Илларионом (Алфеевым) как «экзегезис через опыт»[82]. И действительно в многочисленных высказываниях учителей и отцов эпохи неразделенной Церкви мы можем найти подобные мысли. В частности, Марк Подвижник писал: «Смиренномудрый и упражняющийся в духовном делании, читая Божественное Писание, будет относить все к себе, а не к другим… Слова Божественного Писания читай делами и не многословь, тщеславясь одним простым (буквальным) пониманием»[83].
Владимир Лосский указывает на важную особенность православного понимания того, что есть богословие: «В известном смысле всякое богословие мистично, поскольку оно являет Божественную тайну, данную Откровением… Восточное предание никогда не проводило резкого различия между мистикой и богословием, между личным опытом познания Божественных тайн и догматами, утвержденными Церковью»[84]. Эту мысль можно развить цитатой протопресвитера Александра Шмемана: «Христианство не было учением, оно было узнаванием факта, которого люди раньше не знали… Откровение является специальной сферой богословия; назначение богословия — раскрыть это Откровение»[85].
Бог не обращает внимания человека на отвлеченные идеи о Себе, на те концепции, к которым в повседневной жизни личность остается абсолютно безразлична. Господь не дает нам такое откровение о Себе, постижение которого находится в компетенции одного разума. Дух Божий касается не поверхности человека, но его сердца. Он дарует не «что–то», но Себя самого, как меру, до которой призвана, дорасти человеческая личность. Вот почему для человека, по слову преподобного Максима Исповедника: «важнее быть, чем знать»[86]. Быть тем, кем был сотворен человек, и тем, к чему он был призван, а именно образом Божиим.
Наверное, не будет ошибкой сказать, что такое понимание богословия сохранилось в Православной Церкви и по сей день. «Я бы прямо сказал, — пишет священник Александр Ельчанинов, — если нашему грешному уму какая–либо богословская истина кажется логичной, симметричной и т. п., значит она не истинна: и я предпочитаю оставаться при евангельских абсурдах, чем с философскими композициями, которые тем подозрительнее, чем они красивее. Твердые и отчетливые линии имеют только мертвые тела и умершие мысли. Всякое определение, фиксация в наших человеческих планах — ограничивает, замораживает это дыхание жизни и всегда неполно, случайно и потому неверно»[87]. Богословие, прежде всего глубина живой встречи в молитвенном предстоянии пред Богом. Это, конечно же, ни в коей мере не умаляет значение поиска и выработки языка для описания предметов духовного порядка. Но при всем этом разум также должен отчетливо видеть определенный предел своей компетенции. Очень хорошо об этом говорит католический богослов Жан Ланиелу: «познание Бога есть одновременно и дело разума и оно же ставит разум под вопрос. В данном случае ничто не может быть более разумным, чем непризнание разума. Разум есть необходимое средство этого познания в той мере, в какой Он не позволяет помещать Бога там, где Его нет»[88]. Еще более удачно, но в лаконичной форме об этом пишет протопресвитер Иоанн Мейендорф: «Богословие в одно и то же время и созерцание Бога, и выражение невыразимого». Вот она золотая середина во всякой попытке определить суть и предназначение богословия. Необходимо только помнить, что это не просто наука, которая стремится дать ответ на любой вопрос. Скорее богословие призвано ставить вопрос перед человеком, ищущим Бога. Архимандрит Киприан (Керн) пишет: «Если богословствующая мысль и призвана не бояться вопрошать и думать, если она не должна укрываться от волнующих и трудных проблем, то все же у какого–топредела она должна смириться перед непостижным, должна преклониться перед закрываемой ангельскими крыльями тайной и умолкнуть»[89].