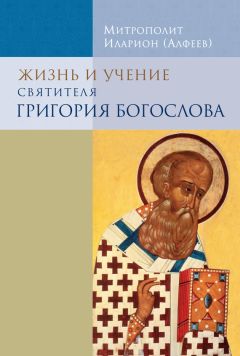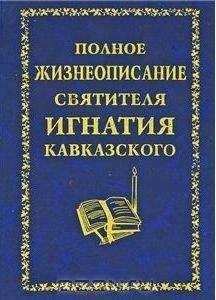Так, братия, будем поступать и так вести себя, и разномыслящих, пока можно, будем принимать и врачевать как язву истины; страждущих же неисцельно станем отвращаться, чтобы самим не заразиться их болезнью, прежде нежели сообщим им свое здоровье. И Бог мира, всяк ум превосходящего, будет с нами, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава во веки веков. Аминь.
Слово 7, надгробное брату Кесарию, сказанное еще при жизни родителей
Может быть, думаете вы, друзья, братья и отцы, любезные делом и именем, что я охотно приступаю к слову, желая слезами и сетованием сопроводить ушедших от нас или предложить длинную и витиеватую речь, каковыми многие услаждаются. И одни готовятся скорбеть и проливать со мной слезы, чтобы вместе с моим горем оплакать свое, какое у кого есть, и научиться скорби в страданиях друга; другие же надеются насытить слух и получить удовольствие, предполагая, что и само несчастье обращу в случай показать себя, как бывало со мной прежде, когда, кроме прочего, довольно избыточествовал я предметами слова и щедр был на сами слова, пока не воззрел к истинному и высочайшему Слову, не предал всего Богу, от Которого все, и взамен всего не приял Бога. Нет, не так обо мне разумейте, если хотите разуметь справедливо. Не буду более надлежащего плакать об умершем я, который не одобряю этого в других. Не стану и хвалить сверх меры и приличия; хотя слово для обладавшего даром слова и хвала для любившего особенно мои слова есть такой дар, который ему приятен и приличнее всякого дара, и не только дар, но долг, который справедливее всякого долга. Однако же пролью слезы и почту удивлением, насколько это оправдывает данный на то закон, ибо и это не чуждо нашему любомудрию, так как память праведника пребудет благословенна (Притч. 10:7). Над умершим пролей слезы и, как бы подвергшийся жестокому несчастию, начни плач (Сир. 38:16), говорит некто, равно предотвращая нас и от нечувствительности и от неумеренности в скорби. Потом покажу немощь человеческого естества, упомяну и о достоинстве души. Как сетующим подам должное утешение, так скорбь от телесного и временного возведу к духовному и вечному.
Начну с чего для меня всего приличнее начать. Всем вам известны родители Кесаря; и видимы и слышимы вами их добродетели; вы подражаете и удивляетесь им, а незнающим, ежели есть таковые, рассказываете о них, избирая для этого — один то, другой другое. Да и невозможно было бы одному пересказать все; такое дело, сколько бы кто ни был неутомим и ревностен, требует не одного языка. Из многих же и великих качеств, похвальных в них (да не подумают, что преступаю меру, хваля своих!), одно всех важнее и не уступает прочим в знаменитости; это — благочестие. Скажу и то, что эти почтенные люди украшены сединами, равно заслуживают уважения и за добродетель и за престарелость. Тела их истощены летами, но души юнеют Богом.
Отец, бывший дикой маслиной, искусно привит к маслине доброй и до того напоен ее соками, что ему поручено прививать других, вверено врачевание душ. Сподобившись высокого сана и почтенный высоким председательством у людей этих, как второй Аарон или Моисей, приближается он к Богу, и другим, стоящим издали, преподает Божии глаголы. Он кроток, не гневлив, спокоен по наружности, горяч духом, обилен дарами видимыми, но еще более обогащен сокровенными. Но для чего описывать, кого вы сами знаете? Если и надолго простру слово, — не скажу, сколько бы надлежало и сколько каждый из вас знает и желает слышать. Лучше предоставить всякому думать по–своему, нежели, изображая чудо словом, убавить большую часть его.
А мать издревле и в предках посвящена Богу, не только сама обладает благочестием, как неотъемлемым наследием, но передает его и детям. Действительно, от святого начатка и примешение свято (Рим. 11:16). И она до того возрастила и приумножила это наследие, что некоторые (скажу и это смелое слово) уверены и уверяют, будто бы совершенства, видимые в муже, были единственно ее делом, и (что чудно) в награду за благочестие жены дано мужу большее и совершеннейшее благочестие.
Всего же удивительнее то, что оба они и чадолюбивы, и христолюбивы; вернее же сказать, больше христолюбцы, нежели чадолюбцы. Для них и в детях одно было утешение, чтобы прославлялись и именовались по Христе; под благочадием разумели они добродетель и приближение детей к совершенству. Они милосерды, сострадательны, многое спасают от тли, от разбойников и от миродержителя; сами из временного жилища переселяются в постоянное, и детям собирают драгоценнейшее наследие — будущую славу. Так достигли они маститой старости, равно уважаемые и за добродетель и за возраст, исполненные дней как преходящих, так и пребывающих. В том только не имеют они первенства между земнородными, в чем каждый из них препятствует другому стоять первым. Для них во всем исполнилась мера благополучия; разве иной исключит последнее событие, которое не знаю как назвать — испытанием ли, или Божиим смотрением. Но я назвал бы смотрением, потому что, предпослав одного из детей, который по возрасту мог скорее поколебаться, тем свободнее могут они сами отрешаться от жизни и со всем домом возноситься к горнему.
Все это говорено мной не с намерением восхвалить родителей, ибо знаю, что едва ли бы кто успел в этом, хотя бы на похвалы им посвятил и целое слово. Я хотел только из свойства родителей показать, какова должна быть добродетель Кесаря. Не удивляйтесь же и не почитайте невероятным, что при таких родителях явил он себя достойным таких похвал. Напротив, удивительно было бы, если бы, презрев домашние и близкие примеры, подражал он другим. И действительно, начало было таково, какое и приличествовало человеку, который имел благородное происхождение и обещал впоследствии жизнь превосходную. А середину сокращу: красота, величественность роста, во всем приятность и, как бы в звуках, стройность, — такие были преимущества в Кесарии, которым удивляться не наше дело, хотя для других и кажутся они немаловажными. Перейду же к последующему, о чем трудно и умолчать, хотя бы захотел.
В таких правилах воспитанные и наставленные по достаточном упражнении здесь (в Назианзе — ред.) в науках, в которых, по быстроте и высокости дарований (трудно и сказать, сколько) превзошел он многих (могу ли без слез вспомнить об этом и от горести против обещания не изобличить себя в нелюбомудрии?), когда наступило время оставить нам родительский дом, — мы в первый еще раз разлучились друг с другом. Я, по любви к красноречию, остался в процветавших тогда палестинских училищах, а он отправился в Александрию, в этот город, который и тогда, и доныне был и почитался, неточным местом всякого образования.
Какое же из совершенств его наименую первым, или важнейшим, о чем умолчу без величайшего ущерба слову? Кто доверчивее его был к наставникам? Кто дружелюбнее со сверстниками? Кто больше его избегал сообществ и бесед с неблагонравными? Кто вступил в теснейшее общение с людьми отличнейшими, как с чужеземцами, так и из соотечественников наиболее одобряемыми и известными? Он знал, что короткое обращение с людьми немало способствует к навыку и в добродетели и в пороке. А за такие качества, кто более его отличаем был начальством, уважаем в целом городе? И хотя, по обширности города, все оставались в безвестности, однако же, кто был известнее его целомудрием, славнее умом? Какого рода наук не проходил он? Или, лучше сказать, в какой науке не успел более, нежели как успевал другой, занимаясь ею одной? Кто, не только из сверстников по учению и летам, но из старших возрастом и начавших учиться прежде него, мог с ним, хотя несколько, сравниться?
Он изучал все науки как одну, и одну как все. Быстрых по дарованиям сверстников побеждал трудолюбием, и неутомимых в занятиях — остротой ума; вернее же сказать, скорых превосходил скоростью, трудолюбивых — прилежанием, а преимуществовавших в том и другом — и тем и другим. Из геометрии, из астрономии и из науки, для других опасной (астрологии — ред.), избирал он полезное, сколько нужно, чтобы, познав стройное течение и порядок небесных тел, благоговеть перед Творцом; а что в этой науке есть вредное, того избегал, и движению звезд не подчинял ни существ, ни явлений, как делают иные, сослужебную себе тварь поставляющие наряду с Творцом; напротив, само движение звезд, как и все прочее, приписывал он, сколько должно, Богу. Что же касается науки чисел и их отношений, также чудного врачебного знания, которое углубляется в свойство естеств и темпераментов и в начала болезней, чтобы, исторгая корни, отсекать и ветви, то найдется ли человек столько невежественный, что дал бы Кесарию второе место, а не предпочел лучше стать первым после него и иметь совершенство между вторыми? И все это не осталось незасвидетельствованным; напротив, Восток, Запад и все страны, где только впоследствии бывал Кесарии, служат знаменитыми памятниками его учености.