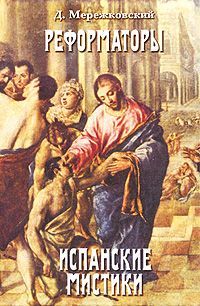«Вечен закон и божественен, – продолжает он отстаивать, – Закон возвещает святыню Господню; поражает и проклинает, готовя дело спасения… Закон никогда не будет отменен; он применяем к осужденным и только в святых исполнен (impenda lex in damnatis, impleta in beatis)». «Грешным людям отвергать Закон, без которого нет ни Церкви, ни государства, ни семьи – ничего, что делает людей людьми, – значит опрокидывать бочку вверх дном; это – невыносимое дело».[498] «Мы и это тебе говорили, но ты не слушал», – могли бы опять напомнить Лютеру католики. Это и значит: «Какою мерою мерите, такой и вам отмерится».
В 1527 году, во время тяжелой болезни, когда думали все, думал и он сам, что умирает, он воскликнул громким голосом и «заплакал так», вспоминает очевидец, «что слезы катились градом по щекам его: „О, каких только ужасов не натворят после смерти моей ложные пророки-мечтатели, второкрещенцы и другие бесчисленные бунтовщики!“[499]
Вот когда он, может быть, понял, что значит: «Кровь их на мне»; понял, что на нем кровь не только восставших крестьян и «жалких людей» в Мюнстере, но и всех бесчисленных жертв грядущего великого Бунта – «всемирного пожара» – всемирной социальной революции. «О, конечно, не только на нем – и на многих других, но и на нем тоже!»
Изменник Меланхтон, изменник Агрикола; изменили или изменят, предали или предадут, большею частью невольно, невинно, и все другие ученики-друзья. «О, зачем, зачем друзья так мучают меня? Точно мало у меня врагов… Лучше бы мне и на свет не рождаться!» – жалуется Иов; жалуюсь и я: лучше бы мне никогда ничему не учить, ничего не проповедовать… Тщетно я трудился – весь труд мой даром пропал». «Если бы я знал в начале проповеди, какие враги Слова Божия люди, то молчал бы и сидел смирно».[500] «Сколько лжебратьев, отпавших от Церкви! Всякий маленький грамматик, крошечный философ только и мечтает о новых учениях… Какое смятение! Никто ни у кого не учится; всякий хочет быть сам учителем… О, какое жалкое падение Церкви, преданной соблазну и немощи!»[501] «Кто же начал соблазн? Кто первый сказал: „Слово Божие во мне одном. Мне дано откровение свыше, помимо Церкви“. „Кто, как не ты?“ – могли бы напомнить Лютеру католики,[502] а может быть, и напоминать не надо: он сам помнит и знает все. «Церковь опустошена и ограблена… Даже те из государей, которые называют себя „евангелическими“, навлекают на людей гнев Божий святотатством и алчностью». «Сатана все тот же (в новой, протестантской Церкви, как и в старой, католической); вся разница лишь в том, что некогда под властью пап смешивал он Церковь с государством, а теперь государство смешивает с Церковью».[503]»Если так, то игра, может быть, не стоила свеч». «Не было ли то, что ты называешь зовом Божьим, только наваждением бесовским?» – эти страшные слова отца могли ему вспомниться в эти страшные дни.[504]
«Есть у Бога прекрасная колода карт, вся из королей, и одну карту Он бьет другой: так Папу побил Лютером, а потом всю колоду Он кидает под стол, как дети, которым надоело играть», – шутит Лютер и предчувствует, что скоро вся колода будет брошена под стол, потому что близится кончина мира.[505] «Я сам был трубою Архангела, возвещающей Второе Пришествие», – скажет он накануне смерти, а еще за шесть лет до нее, в 1541 году, пишет не для людей, – все равно никто ничего не поймет, не услышит, – а только для себя самого «Предположение о возрастах мира» по летописи Кариона Математика. «Мир сей просуществует шесть тысяч лет; мы уже в последнем тысячелетии, и оно не кончится, подобно тому, как Иисус не пробыл всего третьего дня в гробу. Вечер мира уже наступил. Будем ждать».[506] «Мир обветшал, как риза, и скоро изменится».[507]
Когда турки кидаются на Германию, Лютер приветствует в них «Гога и Магога», стучащихся в дверь христианского мира. В Пасху 1545 года великая Тайна Второго Пришествия исполнится, небеса и земля с шумом прейдут, праведные воскреснут в жизнь вечную.[508] Это предсказание Лютера для мира не исполнилось, но для него самого мир действительно кончился – он умер почти в тот самый год, на который предсказывал кончину мира.
«Много мы кое-чего увидим, если мир еще лет пятьдесят просуществует!» – сказал ему однажды кто-то в застольной беседе.
«Лет пятьдесят – не дай-то Бог! – воскликнул Лютер. – Наступят дни, когда так скверно будет жить на земле, что люди со всех концов мира будут вопить: „Господи, скорей бы конец!“
И, подумав, прибавил: «Нет, пусть уж лучше все сразу кончится Страшным Судом… О, как бы я хотел, чтобы завтра же наступил конец мира!»[509]
Летом 1545 года, месяцев за шесть до смерти, отчаявшись или как будто отчаявшись в деле своем, он думает бежать из Германии: «Лучше мне скитаться, нищим, по большим дорогам и выпрашивать хлеб свой, чем мучиться, как я мучаюсь в эти последние жалкие дни жизни моей, видя то, что происходит здесь, в Виттенберге (он мог бы сказать: „Во всей Германии – во всем христианском человечестве“), весь мой труд и тот пропал даром».[510]
«Ох, как я устал, как я устал!.. Будь что будет, пропадай все! Кончена Германия – она уже никогда не будет тем, чем была», – пишет он еще раньше, в 1542 году, за четыре года до смерти.[511] Кончена, может быть, не только Германия, но и все христианское человечество: «Я стар и очень устал… Но все еще нет мне покоя, потому что диавол неистовствует, и человечество так озверело, что мир погибает».[512] «Мир, как пьяный мужик на лошади: сколько ни подсаживай его с одного бока в седло, – все валится на другой бок. Миру помочь нельзя ничем: он хочет принадлежать диаволу».[513] И за два года до смерти: «Кажется, мир, перед концом, сошел с ума, как это бывает иногда с людьми перед смертью».[514] Кажется, весь мир – как осажденный Мюнстер, где «жалкие люди» ищут Царство Божие и находят только царство диавола.
«Я обленился, устал, охладел ко всему (alt, kalt, ungestalt)… Я уже ни на что не годен, я – человек конченый… Да приложит же меня Господь к отцам моим и да предаст тело мое червям – давно пора! Я пресыщен жизнью, если только это можно назвать жизнью». «Весь этот год (1542) я был, как мертвый, и только беременил землю».[515] «Я только охладелый труп, ожидающий могилы».[516]
И в конце января 1546 года, недели за три до смерти, он написал из Эйслебена, где он родился и где умрет: «Братья, молитесь об одном для меня – чтобы дал мне Господь умереть спокойно. Когда я возвращусь в Виттенберг, то лягу в гроб и отдам жирного доктора Лютера в пищу могильным червям… Я устал от мира и покину его, как путник покидает дрянную гостиницу».[517] «Если вы услышите, что я болен, – не просите для меня у Бога ни здоровья, ни жизни. Просите только, чтобы Он послал мне тихую смерть».[518]
Дело жизни для христианина последнее и величайшее – смерть. «Делается богослов (в высшем смысле: кто обладает Словом Божьим и кем обладает оно) – делается богослов, не понимая… не созерцая, а только умирая (Moriendo fit theologus, non intelligendo et speculando)»,[519] – учит Лютер. Как не призрачно-мнимо и не отвлеченно-умственно, а религиозно-действенно жил человек, узнается только по тому, как человек умирает. В смерти с христианином не только что-то делается, но и он сам что-то делает; не влечется на смерть, как трепетная жертва на заклание, а сам идет на нее, как мужественный воин на врага. Именно так шел Лютер на смерть. Чтобы знать, как он жил, и все еще, может быть, живет и будет жить всегда не в одной из двух разделенных Церквей, протестантской и католической, а в будущей Единой Вселенской Церкви, – надо знать, как он умер.
Строит ли кто… из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, – дело каждого обнаружится… потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня (1 Коринфянам, 3:12–15).
Эти слова Павла часто, должно быть, вспоминались Лютеру в последние дни жизни. Он знал, что если даже дело его сгорит, то сам он из огня спасется, потому что в этом и заключалась блаженная тайна Предопределения – тот великий Свет с неба, который озарил его еще в начале жизни, как Павла на пути в Дамаск, и уже не потухал никогда; он знал, что в деле спасения личного он строил не только себе, но и для Церкви, из «драгоценных камней», и что это дело его ни в каком пожаре сгореть не может. Но бывали, вероятно, такие минуты, когда ему казалось, что в деле спасения общего он строил только «из дерева, соломы или сена», и что это дело его уже начало гореть не только в Крестьянском бунте и в Мюнстере, а в том «всемирном пожаре» социальной революции, в котором, он предчувствовал, сгорит окончательно. В эти-то минуты и овладевало им то, что могло казаться не только врагам его, римским католикам, но и ему самому, смертным грехом отчаяния, но на самом деле было чем-то совсем другим.