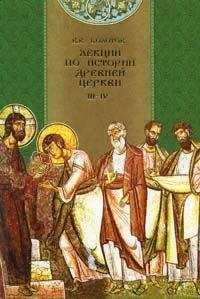Самый внешний способ изложения у Василия Васильевича, язык и стиль его, отличается неподражаемой выразительностью и меткостью, говорит ли он о высоких предметах богословия или о незначительных подробностях быта и обыденных событиях. Он был и художником слова.
В печатных статьях его, имеющих назначение сообщать только новое, требующее поэтому всегда научного обоснования и обширного ученого аппарата, для целостного изложения событий, понятно, не могло быть много места, хотя η в них можно встречать временами связные очерки, которые должны как бы вознаграждать читателя, по выражению автора, за сухость и утомительные подробности исследования, приводящего к новым результатам.
Но рука художника, а не простого ремесленника науки, естественно, должна сказываться и в обработке этих сухих и утомительных подробностей, представляющих собственно лишь тот материал, из которого может быть возводимо более или менее цельное и стройное здание истории. В математике говорят об изящных формулах, об изящных способах доказательства, открываемых и применяемых наряду с другими формулами и способами, столь же точными по существу и по конечным результатам, и однако менее совершенными по форме и менее удобными для применения. Подобный изящный, так сказать, творчески–художественный способ разработки предметов, с художеством в собственном смысле ничего общего, по–видимому, не имеющих, возможен не в одной лишь математике, но и в других областях знания. Пример этого в своей области и представляет Василий Васильевич. Методы исследования его в применении к разным вопросам являются образцовыми, так что его работы представляют интерес уже с одной этой формальной стороны, помимо того или другого положительного их содержания.
* * *
Таков в общих чертах образ ученого, который, стоя на границах между познанным и неизвестным еще для науки, поставил задачей своей деятельности — не повторять известного, а стремиться всегда к открытию неизвестного, и был неизменно верен этому принципу, — которому доступны были глубины богословской спекуляции и высоты метафизической абстракции, — который мог читать тексты на языках, чуждых большинству и европейских его собратий по его специальности, — который не боялся, где приходилось встречаться, и математических формул и цифр и даже математическую точность в собственном смысле ставил идеалом для своей науки, — который, наконец, обладая всеми научными средствами для своих целей, как историк, был наделен еще в высокой степени и даром художественного, в своем роде, творчества в области своей науки.
Как при жизни его, чем ближе представлялась возможность знать его, тем более он изумлял своими дарованиями и познаниями, так и теперь, чем ближе и внимательнее мы всматриваемся в духовный образ этого удивительного ученого, тем сильнее возрастает возбуждаемое им удивление, и тем яснее и тверже делается убеждение, что за ним не напрасно и не преувеличенно установилась слава почти гениальной учености, что он соединял в себе все, что только можно признать необходимым для того, чтобы довести до идеального почти совершенства разработку предмета его специальности.
VII
Значение всякого деятеля выясняется через сопоставление его с другими деятелями в той же области. Представляется, однако, довольно затруднительным произвести точное сравнение Василия Васильевича как ученого с другими учеными, не только в ряду русских, но и европейских: настолько своеобразное явление он представляет и настолько много в нем, как ученом, такого, чего не встречаем в других, работающих в той же научной области или смежных с нею.
Русская наука, в частности богословская, является еще слишком молодой, чтобы в ее прошлом можно было найти многих выдающихся деятелей. В данном случае, когда речь идет о В. В. Болотове, наиболее, кажется, могут привлекать внимание два своего рода корифея в среде представителей богословской учености прежнего времени: протоиерей Г. П. Павский (1787–1863), профессор Петербургской Духовной академии, и протоиерей А. В. Горский, профессор, потом ректор Московской Духовной академии (1812–1875). Первый, профессор еврейского языка и вообще филолог, обращает на себя внимание лишь этой филологической стороной своей деятельности. Второй, профессор (сначала) церковной истории и историк по призванию, помимо величайшего нравственного влияния, какое он производил на окружающих своей личностью, — как ученый, был, собственно, первым русским представителем науки — общей церковной истории.
Несправедливо было бы и несогласно с долгом историка хотя сколь–ко‑нибудь уменьшать действительное значение этих деятелей в истории русской науки. Можно признать, что если бы они родились на Западе, жили и действовали в другой обстановке и при других условиях, они, как ученые, могли бы занять место наряду с первоклассными европейскими учеными. Однако, их едва ли, кажется, можно и следует сравнивать, как ученых, с корифеями западной учености безотносительно к непосредственно окружавшей их среде, к тому уровню специально русской науки, который они стремились повысить, повторяя иногда и применяя в новой сфере уже известное на Западе.
Василий Васильевич, как было сказано, поставил задачей для себя — достигнув высшего уровня общеевропейской науки, повышать именно этот уровень. Он хотел говорить всегда qua par est reuerentia, по его выражению, с высшими авторитетами европейской учености и выступать всегда только с безусловно новыми в науке результатами. Он становился, таким образом, прямо в ряды европейских ученых высшего ранга.
Но и сравнение его с учеными Запада также представляет затруднения. Наиболее уважаемыми Василием Васильевичем авторитетами в западной науке были Павел де–Лагард (1827–1891) и Альфред фон–Гутшмид (1831–1887). Де–Лагард — профессор восточных языков в Гёттингенском университете, один из величайших полигисторов XIX в., лингвист, который, еще будучи юношей, стыдился, по его словам, читать что‑либо в переводе, а не на подлинном языке, и который издавал потом тексты на четырнадцати языках. Гутшмид — профессор древней гражданской истории в Тюбингене (с 1877 г.), разносторонний ученый, приступавший в юности к науке с наивным характерным убеждением, что нет, в сущности, вопросов, не разрешимых для вооруженного надлежащим образом исследователя, специалист особенно в вопросах хронологии, ориенталист для своих целей настолько, чтобы никогда не подвергаться упрекам в недостаточном понимании нужных ему языков.
Но оба эти ученые — не церковные историки и лишь по временам делают экскурсы в область церковно–исторического исследования. Такие экскурсы составляют лишь одну из сторон иначе направленной общей их деятельности. Де–Лагард признавал себя богословом, оказал неоценимые услуги богословию работами по критике текста Св. Писания, имел, в частности, весьма широкие планы и относительно древней церковной истории, — но и его деятельность посвящена была главным образом не этому предмету.
Для Василия Васильевича, между тем, в отличие от этих ученых, с которыми он близко соприкасается с известных сторон и по знаниям, и по методам, церковная история была центром, объединявшим и регулировавшим все прочие стороны его ученой деятельности.
Если мы обратимся к представителям именно церковно–историчес–кой науки на Западе, мы найдем ряд имен, пользующихся общей известностью. Таковы в Германии имена Неандера, Баура, Гарнака, основателей целых школ в области церковной историографии, — также Гизелера и Газе. Франция может выставить аббата Дюшена·, в Англии можно указать имена, например, Гэтча и Ляйтфута. К именам корифеев можно бы присоединить длинный список других менее известных, но в том или другом отношении выдающихся, первоклассных деятелей.
При всех достоинствах и заслугах западно–европейских исследователей в области церковной истории, при высоком значении их трудов и необходимости обращаться к ним для всех работающих на том же поприще, было бы однако интересно, если бы кто‑либо указал в среде этих ученых пример столь же широкой и разносторонней подготовки для целей церковно–исторического исследования, какой представляет собой Василий Васильевич, — такое же сочетание специально богословского образования со знаниями и наклонностями филолога–лингвиста и математика, всецело обращенными на служение призванию церковного историка, и отсюда такую же компетентность в решении самых разносторонних вопросов в своей области.
Стремление к энциклопедизму можно, конечно, встретить и у второстепенных ученых, но не идущее обычно далее дилетантских занятий.[351]
Нередки примеры приобретения и строго научного применения в церковно–исторических исследованиях и специальных в той или другой области знаний. Но в таких случаях обычным явлением бывает то, что сначала почти все внимание сосредоточивается на овладении орудием (например, восточными языками), а потом слагается умение работать при помощи его в известном лишь направлении.