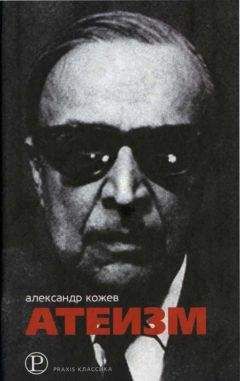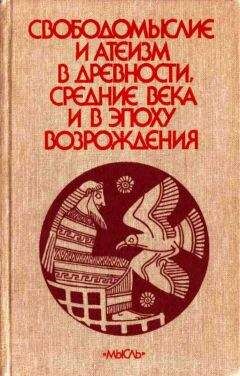Единственное новое определение божественного содержания, привносимое именем Софии, дается в понятии «вечно — женственного». Соловьев много и многократно настаивает на женственном характере Софии. Но в самой его метафизике термин «женственное» есть лишь новое имя для одного уже упоминавшегося в другом месте свойства идеального Человека. Действительно, когда Соловьев старается оправдать употребление этого термина и уточнить его смысл, он говорит, что София является совершенно пассивным существом («ничто», «чистая возможность»), что она обладает воспринимающей природой, что, наконец, «как стоящее между ограниченным и безусловным… оно по природе есть начало двойственности, ή αόριστος δυάς[60]пифагорейцев — самое общее онтологическое определение женственности»[45]. Однако мы уже знали, что второе Абсолютное, будучи «становящимся», имеет двойственную (конечную и божественную) природу, что Человек получает свою свободу и свое бытие от Бога и что он совершенно пассивен, поскольку он существует лишь в той мере, в какой отдается Богу.
Подводя итог, можно сказать, что, говоря о божественном «содержании», Соловьев не говорит ничего существенно нового по сравнению с тем, что сказано Ям об идеальном космосе и о Человеке в Богочеловеке. Но если нужно помнить о том, что у Соловьева отдельного и изолируемого, имеющего собственное содержание метафизического учения о Софии нет, то нужно также вспомнить и о том, что в некотором смысле вся философия Соловьева является метафизикой Софии, поскольку по его учению она является не только «содержанием» Абсолютного, без которого Бог не был бы Богом, но еще и действующей (anima mundп) и материальной (materia prima) причиной, подлинной сущностью (всеединой Идеей, идеальным Человечеством) конечного мира. Однако тем самым можно сказать, что вся метафизика Соловьева и, следовательно, его философская мысль в целом основывается на личном мистическом опыте, представляющем саму основу его духовной жизни.
Это неоспоримо. Но в то же время метафизическое учение философа не может рассматриваться в качестве адекватного выражения его мистического опыта. Между Софией метафизической теории и женственным божеством мистического переживания лежит огромное расстояние. Только из одной теории можно мало что узнать об этой мистике, а все, что известно о ней, достаточно плохо сочетается с теорией. Ибо хотя и очевидно, что многие характерные элементы софийной мистики имеют свои эквиваленты в метафизическом учении, но не менее очевидно, что София этой метафизики не могла бы, например, позвать Соловьева в египетскую пустыню.
Метафизическое учение о Софии, рассмотренное само по себе, далеко не является совершенно оригинальным творением Соловьева. Правда, сам он в своих опубликованных сочинениях не указывает никаких источников своего учения: он довольствуется лишь изложением (в статье «Идея человечества у Августа Конта», 1898) учения о Великом Существе, констатируя близкое родство между своим учением и учением французского философа и подчеркивая, что глубокий смысл этого учения был лишь «наполовину почувствован» его автором. Тем не менее несколько фраз из одного письма 1877 года доказывают, что он немало времени посвятил изучению «специалистов по Софии». До публикации своего первого трактата по метафизике он, видимо, прочитал сочинения Парацельса, Якова Беме, Георга Гихтеля, Готфрида Арнольда, Джона Пордеджа, Сведенборга и Сен — Мартена[46]. А ведь сочинения этих мистиков, особенно Беме, включают значительную часть идей о Софии, которые входят в учение русского философа[47]. Кроме того, в юности Соловьев много читал Шеллинга и, хотя тот не употребляет понятия «София», но все, что он говорит о царстве идей в Боге (начиная с диалога «Бруно»), почти тождественно соответствующим соловьевским высказываниям.
Детальное сопоставление учения Соловьева о Софии с учениями вышеупомянутых мыслителей заняло бы слишком много времени. Поэтому мы ограничимся утверждением о том, что родство это значительно и что Соловьев испытал их достаточно сильное влияние. Как и прежде, в учении о Софии Соловьев, вне всякого сомнения, многое заимствует у своих предшественников и, как всегда, заимствуя, он схематизирует, упрощает и обедняет. В особенности он вдохновляется Беме и Шеллингом, но его мысль никогда не достигает их силы и глубины.
Однако соловьевское учение о Софии и Богочеловечестве полностью несводимо к соответствующим Учениям Шеллинга, Беме и их последователей. Особенно их различает то значение, которое Соловьев придает Человеку. Идея о том, что Человек совечен Богу и абсолютно свободен по отношению к нему; что он есть само содержание Абсолютного и представляет, таким образом, целостность бытия;
что он является человеком независимо и, так сказать, «до» появления мира; что он вечно и тем не менее свободно соединен с Богом и что Бог является Богом лишь благодаря этой связи; что Человек, одним словом, почти равен Богу, но при всем при том он тот же, кто восстает против Бога, являясь в своем грехопадении конечным миром и, в этом мире, историческим человечеством; что он и только он может, свободно отдаваясь Богу, спасти этот мир; что, наконец, он присутствует в каждом из нас, является существом, в котором каждый из нас реальным и существенным образом участвует, — эта соловьевская идея не встречается с такой силой и полнотой ни у Беме, ни даже у Шеллинга.
Если мы захотим отыскать других философов, придающих человеку подобное значение, которое можно было бы назвать сверхчеловеческим, то следовало бы подумать не о Беме и Шеллинге, но скорее о Гегеле и Конте. В некотором смысле Соловьев имел основания видеть в последнем своего предшественника в учении о Софии. Но очевидно, что здесь может вестись речь лишь о родстве, а не влиянии. Впрочем, у Конта человек не равен Богу: он заменяет Бога. Если давать «теологическую» интерпретацию антропологии Гегеля, то можно прийти к тому же результату. У Конта, как и у Гегеля, человек может быть абсолютным, лишь занимая место Бога: у них человек является абсолютным, но он абсолютен лишь потому, что кроме него нет другого Абсолютного. Напротив, антропология Соловьева является и остается существенным образом теистической и христианской: у него человек тоже абсолютен, но он является вторым Абсолютным, которое абсолютно лишь благодаря первому Абсолютному, Абсолютному в собственном смысле или Богу. Иначе говоря, если у Соловьева Человек, так сказать, «более» абсолютен, чем у Беме или Шеллинга, то он все же «менее» абсолютен, чем у Гегеля и у Конта. Только это «менее» имеет, может быть, несколько иное значение, чем то, которое на первый взгляд ему можно приписать. Потому что, может быть, менее скромно приписывать человеку так называемую «вторую» роль, которую приписывает ему Соловьев в теистически окрашенной мысли, чем ставить его на первое место в атеистической системе.
Как бы там ни было, эта идея абсолютного и тем не менее поставленного перед лицом Бога Человека составляет оригинальность идеи Софии, учения о Богочеловечестве и, следовательно, всей метафизики Соловьева. Разумеется, эта идея создана не Соловьевым: она встречается не только у него. Будучи лишь предельным «возвышением» основополагающей христианской идеи, она часто появляется в более или менее радикальной форме в истории христианского богословия. Так, антропология Оригена, немецких мистиков средневековья и многих других более или менее еретических христианских мыслителей очень сильно сближается с антропологией Соловьева. Но антропология или, если угодно, софиология русского теософа все‑таки обладает совершенно особым оттенком, который отличает ее от аналогичных учений западных мистиков. Во всяком случае, она без сомнения основана на живой интуиции и представляет наиболее оригинальную и наиболее личную часть соловьевского творчества.
Никто не станет оспаривать, что это учение о Софии содержит темные места, непримиримые антиномии, неустраненные противоречия. Но все‑таки не стоит забывать, что в этом выражаются не столько недостатки соловьевского изложения, сколько Нудности, присущие излагаемой им идее.
Метафизическое учение о мире, которым мы теперь займемся, в сочинениях Соловьева четко не отделено от учения о Боге. Обычно Соловьев излагает два этих учения параллельно, вставляя высказывания, относящиеся к миру, на различных этапах развития учения об Абсолютном. Однако различие этих двух учений в системе очень четко, и его легко установить. Учение о мире радикально отличается от учения о Боге понятием «падения» Софии. Для учения о Боге это понятие, так сказать, не существует. Здесь свободное и независимое божественное содержание, то есть всеединый Человек или София, в вечности полностью и совершенно соединено с Богом. Напротив, понятие «падения» является центральным понятием учения о мире. Ибо по Соловьеву мир есть не что иное, как «падшая», то есть отделившаяся от Бога София, которая возвращается к нему лишь в длинном, «долгом и мучительном» процессе. Поэтому можно сказать, что пока мы рассматриваем Софию в ее совершенстве, вечно соединенной с Богом, мы остаемся в учении о Боге. Но как только мы вводим идею «падения» этой Софии и рассматриваем «падшую» Софию и ее постепенное возвращение к Абсолюту, мы переходим к учению о мире.