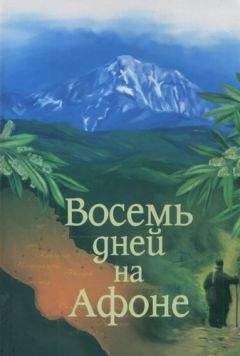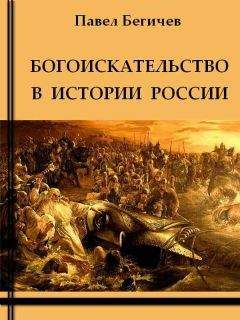Алексею Ивановичу глянулась икона Иверской Божией Матери, он снял её с полки, подошёл к небольшой конторке и тут же к ней вышел ещё один дедушка. Этот тоже добродушно улыбался, но был крупнее утреннего старичка, борода и нос у него были, как у Толстого, а глаза добрые и живые. Он тоже что-то весело заговорил, Алексей Иванович отвечал ему в своём духе: «Русия. Ортодокс»; я этот концерт уже видел и пошёл бродить по залам — лавка и впрямь была искусно перегорожена полками и стеллажами, так что создавалось впечатление нескольких комнат. После небольших икон шёл зал с иконами средних размеров, затем — больших. Тогда я просто восхищался ими, я и не думал, что каждую можно купить. Заслужить только.
Хорошо, всё-таки, когда нет лишних денег.
А вот и полка с ладаном. Я вспомнил слова брюссельского батюшки о ладане и тут же увидел надпись «Rose»[96]. Ладан был в больших длинных коробках, в каких у нас продают рулеты. Я приподнял крышку, и пахнуло удивительным ароматом, словно приоткрыл шкатулочку, в которой хранились лепестки цветов. Затем я приподнял крышечку со словом «Cypress»[97] и погрузился в запах хвои и чего-то ещё солёного и твёрдого. Я стал открывать другие коробочки, и разные ароматы волновали меня. Это не было наслаждением парфюмера, я представлял, как положу кусочек ладана в кадильницу перед молитвой и как аромат с Афона будет помогать мне.
На ладан деньги были, я направился к старому и малому, которые, казалось, нашли общий язык, по крайней мере, Алексей Иванович обходился без обычной жестикуляции.
— Евлогите! — обратился я к батюшке.
Тот заулыбался и закачал головой: нет, простые монахи не благословляют.
Ну ладно, тогда я по подобию Алексея Ивановича начал объяснять, что мне надо:
— Ладан… Роуз… смал[98]… - жестов у меня получилось раз в пять больше, чем слов, сейчас даже невозможно помыслить, что я мог изображать и как. Розу, например.
— А! Роуз! Смал! — Монах, кажется, меня понял. — Есть! — произнёс он совершенно по-русски и переваливающейся походкой заковылял в глубь лавки.
Я недоумённо посмотрел на Алексея Ивановича.
— Дедушка-то непростой, — пояснил он. — В войну к нашим в плен попал, десять лет в России жил, потом сюда приехал. Очень русских любит. «Катюшу» поёт. Только, говорит, слова стал забывать, сам стареет, и русских мало приезжает, вот только последнее время появляться стали…
— А чего же он, немец, что ли? — с некоторой осторожностью поглядывая на перегородку, за которую ушёл бывший военнопленный, спросил я.
— Румын.
Появился дедушка, огорчённо развёл руками, но при этом излучая добродушие и участие.
— Нету смал роуз, есть биг[99].
— Нужно смал.
Дедушка развёл руками, видать, бельгиец всё выбрал. А так не хотелось уходить от лучистого дедушки, ничего не купив.
— Возьми большую, — сказал Алексей Иванович. — Батюшкам подаришь.
И то!
— Давайте, — и я попросил три большие коробки разного ладана.
Как обрадовался дедушка! И конечно, обрадовался он не потому, что монастырю пошёл доход (какой, в самом деле, доход от моих копеек?), а обрадовался тому, что может послужить. Быть полезным.
И мне тоже захотелось послужить. И я вспомнил! Вспомнил, как однажды в храме батюшка раздавал небольшие пластмассовые иконки, которые кто-то из прихожан привёз из Иерусалима. Сколько было трепета и благодарности у людей, принимавших эти маленькие святыни.
На конторке как раз и лежали такие же небольшие пластмассовые иконки Иверской Божией Матери.
— Сколько тут?
— Фифтен, пят…сят.
Я кивнул. Подумал и взял такую же стопку, где Божия Матерь изображена покрывающей омофором Святую Гору.
И как опять радовался монах! Теперь он радовался моему поступку. Он знал, что эти простенькие иконки поедут в Россию и ещё сотни душ соприкоснутся с Афоном, с Божией Матерью, с Богом.
А как я радовался! Словно великое дело совершил! А ведь и впрямь великое — о других подумал. В порыве чувств хотел было купить ещё пачку Алексею Ивановичу, но что-то остановило меня.
А монах, видимо, тоже почувствовал, что Алексей Иванович от меня может и не взять подарка, и тогда он сам дал ему иконки, не пачку, конечно, но штук десять, которые россыпью лежали у него на конторке. Потом из той же россыпи дал три иконки и мне, чтобы мы не подумали, что Алексея Ивановича как-то выделяют особо. Вообще какое замечательное чувство: радоваться за других!
Мы тепло благодарили румына, похожего на Льва Толстого, побывавшего в десятилетнем русском плену и ставшего афонским монахом, а он всё кивал нам:
— До свиданя, до свиданя. Храни Божия Матерь…
Вернулись в комнату, чтобы уложить в рюкзак ладан. Никто пока не вселялся. Ну и слава Богу.
— Для полного счастья не хватает кофе, — констатировал Алексей Иванович.
Я принёс воды, оставил Алексея Ивановича заниматься кофе, а сам отправился на дальнейшее изучение окрестностей, теперь меня привлекала другая часть коридора, та, где за лёгкими шторами скрывалось светлое пространство. Скорее всего, там было окно, но то, что открылось, когда раздвинул шторы, превзошло ожидания — небольшая лоджия, где стояли два столика и вокруг них по паре плетёных кресел. Лоджию оплетали зелёные виноградные нити, вдалеке виднелся Афон.
— Ну, каких ещё открытий чудных сподобился? — поинтересовался Алексей Иванович.
— Там… там… — я снова не мог подобрать слов, наконец выдал: — Там даже пепельница есть.
— Ну, что ж, сейчас кофе попьём и посмотрим, — Алексей Иванович сидел в креслице у камина и, конечно, ему казалось, что лучшего места быть не может.
— Мы там попьём.
Я подхватил обжигающую руки чашку и через минуту был уже на лоджии. За одним из столиков сидел молодой человек и покуривал тонкую сигаретку. И меня нисколько не расстроило, что кто-то ещё оказался на чудесной лоджии — счастья, когда оно полное, хватит всем. К тому же, когда появился Алексей Иванович со своей чашкой, застыл на некоторое время от открывшейся картины, потом сел и бросил на стол «беломор», молодой человек исчез.
Мир и покой пребывали на маленькой лоджии, виноградная лоза укрывала наши лица, рядом с нами на белом столе лежал луч солнца, перед нами раскрылась красота и величие мира. Мы блаженствовали. Ничего не хотелось, и я точно знал, что в Его воле было дать мне это умиротворение, и как бы я ни старался и ни желал подобного в земной жизни, мне никогда своими силами не добиться такого же состояния.
Я вдруг понял, что счастье — это отсутствие желаний. Кроме одного — быть с Богом. Быть в Его воле.
— Надо запомнить это на всю жизнь, — произнёс Алексей Иванович, и далее прозвучало почти как клятва: — Где бы я ни был, чтобы со мной ни случалось, я всегда буду помнить эту минуту. Это то, ради чего стоит терпеть на земле. Послушай, неужели мы в самом деле в раю? Или нет, это лишь краешек, преддверие его…
Минута прошла… Сколько она длилась?
— Скоро на службу, — сказал я.
— Кофе остыл, — ответил Алексей Иванович.
Мы блаженствовали ещё некоторое время, но уже по-земному: отхлёбывали кофе, Алексей Иванович курил, я что-то рассказывал…
Но земное время имеет счёт — пора собираться на службу.
7
В Иверском служба началась, как обычно, перед завесой в храм. Но когда завеса открылась, мы не прошли внутрь, а вышли из притвора и за монахами направились к небольшому храму, стоящему чуть поодаль, который мы сначала приняли за часовенку. Бог весть каким чувством, но мы то ли догадывались, то ли надеялись, что именно здесь хранится Иверская икона Божией Матери, по преданию, приплывшая сюда по волнам[100].
Но что наши ожидания и надежды! Они мизерны по сравнению с тем, как одаривает Господь!
Я долго подбирал, какое слово написать первым, чтобы точнее передать чувства, когда мы вошли в храм. Но что все эти «ослепительные», «блистающие», «поражающие» и прочие восторги — они только подчёркивают скудость моего языка. Было так. Мы вошли, и сразу — это даже была не мысль, не чувство, а то, что входит в тебя не через органы восприятия и осознания, а иным способом — сущность: вот Она!
И уже потом, когда, поднявшись с колен, я смог смотреть на Неё обычными человеческими глазами (это, как на солнце, даже сквозь тёмные очки на него невозможно поначалу смотреть, а после прищуриваешься, привыкаешь), когда вслед за всеми приложился к Образу, тогда зароились в голове все эти «ослепительные» и «поражающие».
Началась, вернее, продолжилась служба. Читался акафист Богородице.
Храм небольшой, но и народу не так уж и много, человек пятнадцать монахов да и мирян с десяток. И Богородица! Дело в том, что так искусно установлен поднимающийся чуть выше человеческого роста киот, в котором находился Образ, так слегка повёрнут в округлом храме, что не покидало ощущение: Богородица стоит вместе с нами, молится, полуобернувшись к алтарю и к нам, молящимся[101].