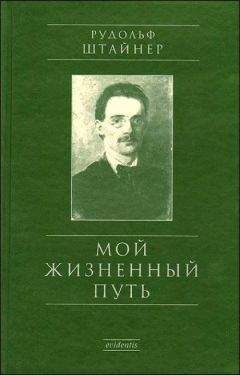Молодого художника звали Отто Фрёлих[118]. Он часто бывал у меня, и мы совершали совместные прогулки. Когда мы были вместе, он всегда рисовал "в духе". Находясь рядом с ним, можно было забыть, что в мире существует еще что-то, кроме красок и света.
Так ощущал я моего молодого друга. Все мои слова, обращенные к нему, я облекал в одеяние из красок, чтобы быть понятым им.
И он действительно научился владеть кистью и накладывать краски таким образом, что его картины поистине стали отражением его богатой красочной фантазии. Если он писал ствол дерева, то на холсте появлялась не форма ствола, но все, что выявляют наружу свет и краски, когда ствол дерева дает им возможность проявить себя.
Я по-своему пытался найти духовное содержание цвета. Именно в нем я видел тайну сущности цвета. Отто Фрёлих инстинктивно нес в себе как личное переживание то, что я искал для постижения мира красок с помощью человеческой души.
Я был счастлив, что благодаря собственным исканиям мог дать моему молодому другу некоторые побуждения к работе. Одно из них состояло в следующем: я очень сильно переживал то великолепие красок, каким отмечена у Ницше глава "О самом безобразном человеке" в "Заратустре". "Долина смерти", эта живопись в стихах, заключала в себе, на мой взгляд, многие тайны из жизни красок.
Я посоветовал Отто Фрёлиху эту "живопись" в стихах Ницше выразить теперь "стихами" живописи в картине, изображающей Заратустру и самого безобразного человека. Он сделал это. Получилось нечто изумительное. В фигуре Заратустры были сконцентрированы яркие, выразительные цвета. Однако сама фигура была выявлена не полностью, ибо в самом Фрёлихе цвет еще не мог достаточно раскрыться для создания образа Заратустры. Зато тем живее переливались краски "зеленых змеев" в долине самого безобразного человека. В этой части картины был весь Фрёлих. Что касается "самого безобразного человека", то здесь недоставало линий, живописной характеристики. Фрёлих не справился с ним. Он не знал еще тайны красок, позволяющей воссоздать духовное в той или иной форме. "Самый безобразный человек" стал у него просто воспроизведением модели, которого веймарские художники называли "Фюльзак" (букв, "набитый мешок"). Я не знаю, была ли это в действительности фамилия человека, которого часто изображали художники, когда хотели дать нечто "характерное по своему безобразию", но я знаю, что безобразие этого человека уже не было чем-то филистерски-мещанским, а носило черты "гениальности". Однако помещать его безобразную копию на картине, где через переливы красок на лике и одеянии Заратустры во всем своем сиянии раскрывалась его душа, где свет, играя на зеленых змеях, волшебно извлекал истинную суть красок, значило испортить всю работу. И картина не получилось такой, какую мог бы, как я надеялся, создать Отто Фрёлих.
Хотя я замечал за собой склонность к общению, в Веймаре я не ощущал большого желания находиться там, где собирались люди, занимающиеся искусством.
Собрания эти происходили в романтическом, переделанном из старинной кузницы "Доме художественного общества", который находился напротив театра. В полусумраке цветного света здесь засиживались преподаватели и ученики художественной школы, музыканты и артисты. Кто "искал" общества, тот испытывал потребность проводить здесь вечера. Со мной же этого не происходило, потому что общества я не искал, однако с благодарностью принимал его, когда к этому приводил случай.
И поэтому я знакомился со многими художниками в других кругах; но это были не "работники искусства".
Уже само по себе знакомство с некоторыми художниками в Веймаре того времени было важным жизненным приобретением. Ибо традиции двора, чрезвычайно симпатичная личность Великого герцога Карла Александра сообщали городу артистический отпечаток, который приводил в связь с Веймаром почти все то, что происходило в искусстве за этот отрезок времени.
Прежде всего это был театр с добрыми старыми традициями. Лучшие актеры театра не склонялись к натурализму. А там, где современное все же давало о себе знать и стремилось избавиться от некоторой косности, которая всегда сопутствует даже добрым традициям, — оно было далеко от того "современного понимания", которое Брам[119] пропагандировал на сцене, а Пауль Шлентер — в журнальных статьях. Первым среди этих "веймарских новаторов" был Пауль Вике[120], весь проникнутый благородным пламенным духом искусства. Видеть людей, совершавших в Веймаре первые шаги в искусстве, — значило получить неизгладимое впечатление и пройти дальнейшую школу жизни. Театральная среда, в которой нуждался Пауль Вике, раздражала обычного, рядового артиста, воспитанного на традициях.
Много увлекательных часов провел я в доме Пауля Вике. Он был дружен с моим другом Юлиусом Вале, и это сблизило меня с ним. Меня часто приводило в восхищение, как шумно реагировал Вике на то, что приходилось ему переживать во время репетиций новой пьесы, и как он затем исполнял свою роль, которая приводила его в такое состояние. Его игра всегда доставляла мне необычайное наслаждение благодаря стремлению к благородному стилю и яркому огню вдохновения.
В Веймаре совершал свои первые шаги Рихард Штраус. Вместе с Лассеном он выступал как второй дирижер. Первые произведения Рихарда Штрауса были исполнены именно в Веймаре. Музыкальные искания этой личности проявлялись как часть веймарской духовной жизни. Только в Веймаре того времени так радостно и беззаветно принималось то, что будучи принятым, становилось актуальной проблемой искусства. Кругом царит спокойствие традиций, атмосфера, полная достоинства и сдержанности. И вот сюда приезжает Рихард Штраус со своей "Заратустра-симфонией" и музыкой к "Уленшпигелю". И от традиций спокойствия и важности ничего не остается; и происходит это так, что… одобрение приятно, а отрицание не доставляет неприятности — и художник может столь прекрасным образом узнать об отношении к своему творению.
Несколько часов мы провели на первом представлении штраусовской музыкальной драмы "Гунтрам", где главную роль исполнял почти потерявший голос, но всеми любимый певец и прекрасный человек Генрих Целлер[121].
Эта симпатичная личность должна была пройти через Веймар, чтобы стать тем, кем она стала. Генрих Целлер обладал прекрасным природным дарованием певца. Для своего развития он нуждался в окружении, которое с терпением относилось бы к становлению таланта. И развитие Генриха Целлера следует отнести к самому прекрасному, что можно было тогда пережить.
Когда при встрече Генрих Целлер звал меня в артистическое общество, я каждый раз охотно следовал этому приглашению, хотя сначала и не собирался идти туда.
Однако веймарская обстановка имела и теневые стороны. Традиционность, любовь к покою зачастую погружает артиста в состояние некоторой притупленности. Генрих Целлер был мало известен за пределами Веймара. То, что вначале способствовало его взлету, позднее парализовало его. Подобное случилось и с моим милым другом Отто Фрёлихом. Как и Целлеру, ему нужна была артистическая почва Веймара, но эта приглушенная духовная атмосфера поглотила его своей артистической уютностью.
Эту атмосферу "артистической уютности" ощутили тогда, когда сюда стал проникать дух Ибсена и других современных писателей. Это испытали все, например, актеры, которые, преодолевая трудности, стремились выработать стиль для "Норы". Здесь можно было увидеть, что подобные искания возможны только там, где благодаря преемственности старых сценических традиций очень трудно выразить то, что исходит от писателей, идущих не от сцены — как Шиллер, а от жизни — как Ибсен.
Современные веяния сказывались и на театральной публике, тоже зараженной этой "артистической уютностью". Нужно было найти путь между тем, что диктовали обстоятельства в лице жителей "классического Веймара", и тем, что составляло величие Веймара, т. е. его всегдашним пониманием всего нового.
С радостью вспоминаю я постановки вагнеровских музыкальных драм в Веймаре. Директор театра фон Бронсарт с особым пониманием и преданностью относился именно к этой форме театрального искусства. К музыкальным драмам особенно подходил голос Генриха Целлера. Одаренной певицей была Агнесса Ставенгаген, жена пианиста Бернарда Ставенгагена, который некоторое время был дирижером театра. Периодически организуемые музыкальные празднества привлекали в Веймар многих представителей современного искусства. Так, на одном из таких музыкальных празднеств можно было увидеть дирижирующего Малера в начале его творческого пути. Неизгладимое впечатление производила его манера дирижировать, раскрывать музыку не в текучести форм, а оттенять переживание сверхчувственного, сокрытого между формами.