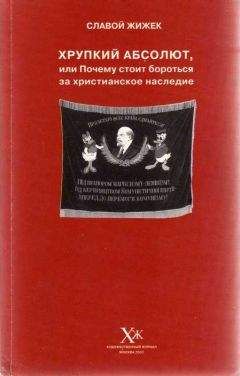Именно на этом фоне необходимо отметить то радикальное отличие, которое, несмотря на кажущееся на первый взгляд сходство, отличает христианство от буддизма. Хотя и христианство, и буддизм утверждают возможность индивидуального контакта с Абсолютом (Пустотой, Святым Духом) в обход иерархической структуры космоса и общества, буддизм остается связанным с языческим понятием Великой Цепи Бытия: даже самый героический персонаж подобен Гулливеру, связанному жителями Лилипутии сотнями веревок Иначе говоря, нам не избежать последствий наших прошлых деяний, которые преследуют нас подобно теням и рано или поздно хватают нас, и тогда приходит пора платить высокую цену. Здесь таится самая сердцевина собственно языческого трагического видения жизни: само наше существование, в конечном счете, служит доказательством нашей греховности, чего–то такого, что обязательно вызывает у нас чувство вины, чего–то такого, что нарушает космическое равновесие, и, в конце концов, когда приходит время «вернуться праху к праху», мы платим цену своим исчезновением. Крайне важно здесь то, что это языческое понятие включает короткое замыкание, совпадение «онтологического» измерения с «этическим», лучше всего передаваемого греческим словом, обозначающим причинность (аития): «послужить причиной чему–либо» означает также и «быть виновным, ответственным за это». Этому языческому горизонту христианская Благая Весть (Евангелие) противопоставляет возможность приостановки действия бремени прошлого, позволяет разорвать путы, связывающие нас с делами дней минувших, покончить с прошлым и начать все сначала. Никакой сверхъестественной магии здесь нет. Такого рода освобождение просто означает разведение «онтологического» и «этического»: Великая Цепь Бытия может быть разорвана на этическом уровне, грехи могут быть не только прощены, но и бесследно стерты. Новое Начало возможно.
Собственно диалектический парадокс язычества заключается в том, что оно узаконивает социальную иерархию («каждый находится на своем месте»), указывая на понятие Вселенной, в которой все различия, в конечном счете, считаются бессмысленными, в которой каждое определенное существо, в конце концов, должно кануть в ту первобытную Пучину, из которой оно возникло. В отличие от язычества, христианство проповедует равенство и прямой доступ к универсальности, утверждая радикальное Различие, радикальный Разрыв. Здесь и коренится принципиальное отличие христианства от буддизма: согласно буддийским представлениям, мы можем достичь освобождения от наших прошлых деяний, только вот освобождение это мы сумеем достичь в радикальном отречении от того, что воспринимаем как реальность, в освобождении от того стимула («желания»), который определяет жизнь, в угасании жизненной искры и погружении в изначальную Пустоту Нирваны, бесформенное Единое Всё. В жизни же никакого освобождения нет, ибо в этой жизни (а другой и нет) мы всегда порабощены теми стремлениями, что ее и определяют: тот, кто я теперь (царь, нищий, муха, лев…), предопределено деяниями моих прошлых жизней, а после моей смерти итоги этой моей жизни определят характер последующего перевоплощения. В отличие от буддизма, христианство делает ставку на возможность радикального Разрыва, слома Великой Цепи Бытия уже в этой жизни, пока мы еще живы. И основанная на этом Разрыве община суть живое тело Христа.
18. ЗАГАДКА ДРУГОГО / ЗАГАДКА В ДРУГОМ
Какую же позицию занимает в отношении оппозиции язычество/христианство иудаизм? Есть один неоспоримый аргумент в утверждении, что иудаизм и психоанализ между собой тесно связаны: в обоих случаях акцент ставится на травматической встрече с пучиной желающего Другого. Такова встреча еврейского народа с Богом, чей непостижимый призыв разрывает рутину повседневного существования. Такова встреча ребенка с загадкой наслаждения Другого. Эта особенность, похоже, отличает еврейско–психоаналитическую «парадигму» не только от любой разновидности язычества и гностицизма (с их акцентом на внутреннем духовном самоочищении, на благодеянии как реализации сокровенного внутреннего потенциала), но также и от христианства. Разве христианство не «преодолевает» инаковость еврейского Бога своими принципами любви, примирения, единения Бога и Человека в становлении Богочеловеком? Разрыв же между язычеством и еврейством носит совершенно определенный характер: и язычество, и гностицизм (переписывание еврейско–христианской позиции обратно, в язычество) подчеркивают «внутреннее путешествие» духовного самоочищения, возвращение к подлинному, сокровенному себе, «обнаружение себя», что явно противоположно еврейско–христианскому понятию внешней травматичной встречи (божественный призыв к еврейскому народу, обращение Бога к Аврааму, непостижимая благодать — все это совершенно несовместимо с «внутренними» качествами и даже с нашей «естественной» врожденной этикой). Кьеркегор был в этом отношении прав: Сократ против Христа, внутреннее путешествие припоминания против перерождения в шоке от внешнего столкновения. Здесь же мы видим, как разверзается пропасть, навсегда разделяющая Фрейда с Юнгом: если изначальное прозрение Фрейда касалось травматичного внешнего столкновения с Вещью, воплощающей наслаждение, то Юнг приписывает топику бессознательного повсеместно распространенной гностической проблематике внутреннего духовного путешествия — самообнаружения.
С христианством, впрочем, ситуация посложнее. В своей «общей теории соблазнения» [116] Жан Лапланш дает непревзойденную формулировку встречи с непостижимой инаковостью как фундаментальным фактом психоаналитического опыта. И Лапланш сам настаивает на крайней необходимости сделать шаг от загадки чего–то к загадке в чем–то. Этот шаг — вариация на тему знаменитого гегелевского изречения о сфинксе «Загадки древних египтян были также загадками для самих египтян».
Когда говорят в терминах Фрейда, о загадке женственности (что есть женщина?), то я предлагаю вместе с Фрейдом обратиться к функции загадки в женственности (чего женщина хочет?). Таким же образом (впрочем, сам Фрейд этого шага не делает), то, что он называет загадкой табу, возвращает нас к функции загадки в табу, Более того, загадка печали ведет нас к функции загадки в печали: чего хочет мертвец? Что ему от меня надо? Что он хочет мне поведать?
Загадка, таким образом, возвращает нас к инаковости Другого; и инаковость Другого — это его ответ, его бессознательному, т, е. его инаковости самому себе [117].
Разве не оказывается этот же шаг настоятельно необходимым и в отношении идеи Dieu obscur, ускользающего, непостижимого Бога? Ведь этот Бог непостижим для Себя, у него должна быть темная сторона, инаковость в Себе, нечто такое, что превосходит в Нем Его Самого. Возможно, это же проясняет и сдвиг от иудаизма к христианству: иудаизм остается на уровне загадки Бога, в то время как христианство сдвигается к загадке в Самом Боге. Будучи совсем не противоположным понятию логоса как откровения в слове и через слово, откровение и загадка в Боге четко соотносятся между собой как две стороны одного и того же жеста. Иначе говоря, именно потому, что Бог — загадка в Себе и для Себя, именно потому, что он содержит в Себе непостижимую инаковость, Христос должен явиться, дабы обнаружить Бога не только ради человечества, но и для Самого Бога. Только благодаря Христу Бог целиком актуализируется как Бог. В том же духе следует понимать и модный нынче тезис о том, что наша нетерпимость к внешнему (этническому, половому, религиозному) Другому суть выражение якобы «более глубокой» нетерпимости к вытесненной или отринутой инаковости в нас самих: мы ненавидим и нападаем на чужаков, потому что не можем прийти в согласие с чужаком в себе… Против этого топоса (который, говоря на юнгианский манер, «интернализует» травматическое отношение с Другим в неспособность субъекта совершить «внутреннее путешествие», чтобы окончательно прийти в согласие со своим существом) необходимо возразить тем, что по–настоящему радикальная инаковость это не инаковость в нас самих, не «чужак в самом сердце», но инаковость Другого самого к себе. Только в пределах этого шага и может появиться собственно христианская любовь: как вновь и вновь подчеркивает Лакан, любовь — это всегда любовь для Другого, поскольку он испытывает нехватку. Мы любим Другого из–за его ограниченности. В конечном счете, мы приходим к заключению, что если Бога нужно любить, то Он должен быть несовершенным, находиться в несогласии с Самим Собой. Что–то в Нем должно превосходить Его Самого.