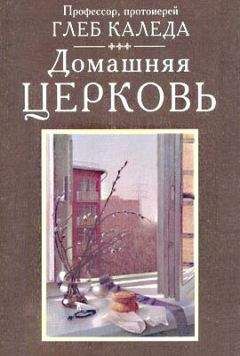Папа крестил и даже венчал дома, в нашей домовой церкви. Постепенно число его прихожан все увеличивалось, и, видимо, с начала 90-х годов папа просто уже не мог скрываться в нашей маленькой квартирке, в нашем маленьком храме. Как не может град укрыться наверху горы, точно так же и папа не мог укрыться в нашей квартирке. Видимо, как раз поэтому Господь в это время вывел его на открытое служение. В эти восемнадцать лет, когда он был тайным священником, он, продолжая заниматься научной деятельностью, защитил докторскую диссертацию и стал профессором. Он считал это своим послушанием и всегда очень ответственно к нему относился. Я вообще не помню папу отдыхающим; он всегда занимался: много наукой и очень много самообразованием. Не имея духовного образования, он действительно был богословом.
Когда папа принял сан, то постепенно на работе его отношения с сотрудниками стали меняться. До принятия сана он был всеобщим любимцем. Его приглашали в другой институт на должность директора, но из-за того, что он не был членом партии, это не проходило. Однако, несмотря ни на что, он занимал очень высокие должности. После принятия сана его сняли с должности начальника отдела и дали сектор. Папа прекрасно понимал, что враг рода человеческого его так просто в покое не оставит за то, что он принял сан, за то, что он начал служить тайно, за то, что он окормляет своих духовных детей.
А их становилось все больше и больше. Я очень хорошо помню времена, когда наступал Великий или Рождественский пост. После работы папа приходил усталый – и тут к нам приезжал кто-нибудь из его духовных чад и он допоздна исповедовал, беседовал, иногда это переходило за полночь, и тогда они оставались у нас ночевать. А утром папа опять шел на работу. Мама часто говорила, что батюшки обычно несут только нагрузку батюшек, в положенное время исповедуют, причащают, а наш отец сначала на светской работе, а потом, в то время, когда все отдыхают, начинает заниматься пастырской деятельностью. Папа тогда отвечал, что у священника, как и у врача, дверь должна быть всегда открыта. И, не жалея себя, он и беседовал, и исповедовал, и «вытягивал» своих духовных чад.
В 1990 году папа ушел на пенсию, остался, правда, профессором-консультантом. В том же году он обратился к Святейшему Патриарху Алексию II с просьбой выйти на открытое служение. Незадолго до своей смерти владыка Иоанн (Вендланд) дал о. Глебу документы о его рукоположении, без которых он, естественно, вряд ли смог бы выйти на открытое служение. Святейший его благословил. Сначала он служил в храме Илии Обыденного, прихожанином которого он был многие-многие годы. Одновременно он заведовал сектором духовного образования и просвещения в Отделе духовного образования и катехизации Московского Патриархата.
В 1991 году папа первым из священников пришел в в Бутырскую тюрьму172. Первая встреча с заключенными была удивительной: о. Глеб пришел с одним из своих духовных чад, который потом рассказывал, что встретила их просто какая-то стена: мрачные, совершенно непроницаемые лица, серая толпа. И вот священник начал говорить – и буквально через пять минут этой массы не стало, появились живые лица, – лица погрязших в грехах, заблудших людей. Папа ходил туда постоянно. Его стараниями в Бутырской тюрьме организован храм в честь Покрова Божией Матери; через некоторое время стали туда ходить еще несколько священников и мирян. Священники не могли справиться, потому что было очень много желающих креститься, исповедоваться и поговорить. Прежде чем крестить, надо было их определенным образом подготовить. Вот как раз этим, как правило, занимались и занимаются миряне-катехизаторы, которые приходят в тюрьмы, разговаривают, проводят беседы, обращают, просвещают, готовят к крещению. А потом уже приступают священники: исповедуют, крестят. Папа даже несколько раз венчал в тюрьме. Он не раз ходил в камеру к смертникам. Один из смертников был потрясен, когда папа сел с ним на одну скамеечку: «Как, батюшка, Вы не боитесь сидеть со мной на одной скамейке?» – «Нет, не боюсь». – «Надо же, – говорит смертник, –это удивительно, это потрясающе!». Смертники и вообще заключенные увидели человеческое к себе отношение. Они увидели любовь священника.
Папа говорил, что в тюрьме исповедуются по-настоящему, что нигде на приходе он не встречал такой исповеди, как в тюрьме. Потому что там действительно все настолько глубоко пережито, настолько глубоко осознан свой грех, что часто этот приход ко Христу из глубины сердца – как обращение благоразумного разбойника на кресте.
О. Глеб всегда старался что-то сделать для отмены смертной казни. Он пытался проводить какие-то совещания, чтобы постепенно наше руководство пришло к решению об отмене смертной казни. Он часто говорил, что мы приговариваем к смерти одного человека, а казним уже другого.
Он был очень энергичный, совершенно не знал покоя. Дома он почти не бывал, а многие священники даже не верили, что ему семьдесят лет. Он постоянно посещал заключенных в тюрьме, занимался организацией симпозиумов, конференций, конгрессов на тему духовного образования. Папа очень переживал, что наш народ находится в состоянии духовной спячки, и очень многое старался сделать для открытия воскресных школ, гимназий, лицеев. Он был один из организаторов Свято-Тихоновского богословского института: первоначально это были катехизаторские курсы (он был их первым ректором), которые впоследствии переросли в Богословский институт.
Папа полностью отдал себя служению Церкви. В какой-то момент ему стало очень плохо с сердцем. Он даже лежал в реанимации, было предынфарктное состояние. Все говорили, что надо себя беречь, но вскоре папа выписался и опять начал вести прежний образ жизни, совершенно не считаясь со своим здоровьем. Мама даже как-то сказала: « Вот сколько сможет послужить, столько и послужит, что же теперь – прислушиваться к тому, что там сердце стучит, что тут колет или там колет? Кто знает, сколько нам осталось жить. Надо до последнего послужить Церкви». И папа действительно до последней минуты, буквально почти до последнего биения сердца служил Церкви.
Болезнь пришла неожиданно, рак кишечника. И вроде бы сначала метастазов не было; так как организм не был подготовлен, решили оперировать в два этапа. Сделали первую операцию. Через три недели папу выписали домой. Опять начал служить, ездить в храм. Но он уже слабенький был. Он служил, но уже меньше, сначала не мог сам ездить, но потом как-то постепенно-постепенно стал крепнуть, стал лучше себя чувствовать и опять начал принимать деятельное участие в жизни Церкви, ходить в тюрьму к своим заключенным, которых так любил. Все думали, что он поправится, вот-вот поправится, и все будет хорошо. И он действительно себя лучше чувствовал, ему собирались делать второй этап операции, то есть выведенную кишку убирать обратно. Папа очень торопился с этим: в ноябре 1994 года должен был состояться Архиерейский Собор, посвященный духовному образованию, и он готовил документы на этот Собор. В августе он стал беспокоиться о том, что ему к ноябрю надо уже быть в норме. Выведенная кишка ему, безусловно, мешала. Он стал собирать необходимые документы для того, чтобы лечь на повторную операцию; само собой разумелось, что надо опять оперироваться.
Когда он лег в больницу, то и там постоянно работал. Даже соседи по палате потом, после его смерти, говорили, что батюшка все время работал. Он все время говорил: мне надо успеть, мне надо очень многое успеть, а я не успеваю. У него было очень много мыслей о Церкви и для Церкви, и он старался все это успеть довести до конца.
И в это время, время телесного угасания, он, можно сказать, подготовил еще один свой выход на служение, на этот раз – как церковный писатель.
Писал он давно и много, его тексты ходили в «самиздате». Но он постоянно к ним возвращался, что-то добавлял, что-то убирал, что-то перерабатывал. Его рукописи составляют значительный архив, каждый текст представлен несколькими вариантами. И вот, отец благословил готовить его рукописи к печати М.А. Журинскую, а почему – об этом я еще скажу.
Нам всем казалось, что это просто второй этап операции, что надо перетерпеть. Ни у кого и в мыслях не было, что может случиться по-другому. И мне даже казалось, что папа сам был как-то очень оптимистически настроен. Только мама говорила: «Любая операция есть операция, всякое может случиться. Давайте пока не будем строить планов – что будет после операции, давайте доживем». Через неделю после второй операции появились свищи, оказалось, что все уже было в метастазах. Живот был – сплошная рана. Это были страшные мучения, но по папе этого нельзя было сказать. Я медик и, проработав тринадцать лет в детской реанимации, насмотрелась многого, но, честно говоря, с трудом делала перевязки. Я делала огромное усилие, чтобы папа не мог ничего прочесть по моему лицу. Мучения были жуткие, но, несмотря на это, до последнего дня он пытался что-нибудь сделать для Церкви. Последние две-три недели он был уже совсем слабеньким, уже не мог писать, почти не мог говорить, но когда к нему приходил второй мой брат (он сейчас уже священник), папа шепотом передавал ему свои мысли.