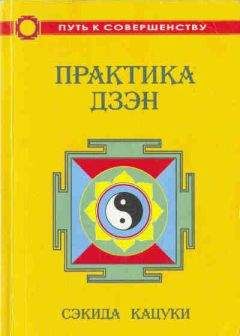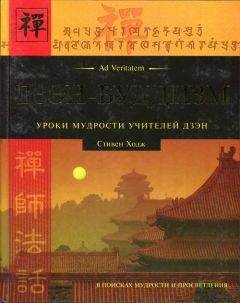Вскоре после возвращения домой у него развилось расстройство сердцебиения, и врач сказал, что оно представляет собой результат слишком сильных сокращений дыхательных мышц, а М. страдал хронической гипертонией. По совету врача он на три месяца прекратил практику дзадзэн, и опасные симптомы исчезли. После десятимесячного перерыва он снова появился в монастыре и рассказал мне о том, что было у него на уме. «Я глубоко продумал весь вопрос и пришел к такому выводу: я не хочу стать великим и необыкновенным человеком в дзэн, каким когда-то надеялся стать». Конечно, он принял на себя большое напряжение, как это бывает со всяким серьезным учеником дзэн, который хочет постичь каждую тайну во вселенной. Он продолжал: «Я — самый обыкновенный человек и хочу только жить спокойно и делать для других все, что могу. Я хочу прожить оставшиеся годы, как ме-кодзин (добрый и чистый человек) или как мокудзики-дзеннин (мудрец, который питается сырой пищей). Я не хочу кэнсе. Что касается проблем жизни и смерти, я не нахожу в себе теперь слишком сильной привязанности к жизни, и я не буду пытаться заниматься дзадзэн столь напряженно, как раньше. Если случайные мысли придут, пусть приходят. Я буду только рад им».
Он продвинулся далеко вперед в своем постижении существования. Если бы я захотел как-то комментировать его слова, это потребовало бы длительной дискуссии. Сейчас будет достаточно привести некоторые дзэнские изречения: «Я не ищу ни святости, ни просветления» или «Я не избегаю грязи, я не хочу избавиться от привязанности».
Но, увы! Он умер вскоре после того, как я покинул Японию, — умер не от своей хронической гипертонии, а от совершенно неожиданного рака. Однако он уже предсказал свою смерть, когда произносил те слова, которые я привел выше.
Когда мне было тринадцать лет, я испытал переживание, которое, можно сказать, предопределило главное напряжение моей жизни, В этом возрасте мы находимся на пороге юности. Мы все еще сохраняем свежие воспоминания о чудесной стране детства, но в то же время деятельность сознания уже почти полностью развита.
Переживание произошло на уроке каллиграфии. Учитель, своеобразный художник, был очень мягким в обращении и не особенно беспокоился о дисциплине и порядке. Он спокойно ходил среди детей и учил каждого в отдельности. Когда у него было хорошее настроение, он брал кисть у какого-нибудь ученика и выписывал великолепный образец каллиграфии; это всегда очень нравилось детям. В таких случаях дети, сидящие около его стола, толпились вокруг него, тогда как проказники, сидящие подальше, пользовались случаем и выкидывали всевозможные шутки. В тот день они были особенно непослушны. Я хотел полностью отвлечься от них и старался намеренно сосредоточиться на своей работе. К счастью, мое место находилось в углу, и я довольно легко смог это сделать. Оглядываясь назад, я понимаю теперь, что мое дыхание во время каллиграфии естественно напоминало дыхание во время дзадзэн, особенно «бамбуковый метод». Прежде чем я осознал это, шумная суета класса, как во время сна, куда-то исчезла. Затем, должно быть, наступил момент, когда я ничего не видел и не чувствовал. Не знаю, как долго длилось это состояние, но период полного забвения себя и всего окружающего, несомненно, продолжался некоторое время.
В глубоком безмолвии — представьте себе давным-давно покинутую вавилонскую башню; на ее развалинах, освещенных светом звезд, впервые за много веков появился случайный путешественник из далекой страны, со своим посохом, спутником одиноких скитаний, он бродит по руинам, и его сердце переполнено сильными эмоциями, — в вечном молчании полуночной тишины я пришел в себя, как бы случайно пробудившись, и увидел, что на моей парте лежит образец каллиграфии, отчетливый и прекрасный, выполненный черной тушью на белой бумаге. Одно мгновение я пристально рассматривал его, а потом внезапно почувствовал гораздо более прекрасное состояние бездонной душевной тишины и спокойного дыхания, которое захватило все мое существо; меня охватили глубокие чувства.
Когда-то китайский Рип Ван Уинкл забрел в легендарную страну Персикового Источника и обнаружил там древних людей, сохранивших мифологическое сознание; они дожили в этой уединенной местности до наших дней.
Вокруг царило совершенное спокойствие, горы и долины были покрыты цветами. Должно быть, это произвело на него сильное впечатление, — и вот такое же ощущение испытал и я в тот момент, когда впервые пришел в себя.
Я чувствовал, что не должен двигаться, чтобы не нарушить состояния покоя тела и ума. Я знал, откуда появились эти покой и безмолвие: они пришли из моего тела, которое утратило свои обычные ощущения. Где были мои ноги? мои бедра? мое туловище? Я знал, что сижу на столе, но не ощущал этого. Обычное чувство тела — фактически ощущение собственного существа — не возвращалось. Именно эта утрата ощущения породила безмолвие и покой ума и тела. Рука, державшая кисть, медленно двигалась сама по себе. Наиболее важное обстоятельство заключалось в том, что мне нельзя было поворачивать голову ни вправо, ни влево: это я ощущал инстинктивно.
Когда в конце урока зазвенел звонок, я не мог понять, что со мной будет. Я сумел встать без труда, но тут же с большим сожалением обнаружил, что состояние спокойствия меня покидает.
Это переживание породило во мне страсть, и на следующем уроке каллиграфии я намеренно пробовал вновь попасть в эту легендарную страну. Я бессознательно чувствовал, что для вызывания такого же эффекта мне не следует двигать телом, знал я и о том, как важно задерживать дыхание и снижать до минимума телесные ощущения. Мне было известно, что нужно как бы усыпить кожу; помня о недавнем детстве, я умел манипулировать телом, кожей и дыханием. Ребенок, играя в прятки, скрывается за занавеской, затаив дыхание, и инстинктивно практикует дзадзэн.
Часто бывает трудно повторить то, что произошло случайно, особенно если мы стараемся это сделать намеренно. Случай — это гений. Чудовища, нарисованные потоками дождя, или утолщения в ткани дерева могут оказаться замечательными произведениями искусства, однако подражать им обычно бесполезно. Попытки оживить мою мечту о легендарной стране, предпринимаемые мною каждый раз, когда я оказывался в классе каллиграфии, иногда казались в некотором роде удачными, но обычно они приносили лишь частичный успех. Это вызывало возражение. Тогда я изменил свой план и, найдя уединенное место на берегу ручья, стал ходить туда каждый вечер. Следуя мудрости, также усвоенной случайно, я смотрел на вечернюю звезду.
Я стоял неподвижно, затаив дыхание, с напряженным вниманием, не двигая плечами и шеей, как будто превратившись в статую. Была поздняя осень. Тихий воздух спокойного вечера окутывал кожу моего лица и всего тела; этого было достаточно, чтобы замедлить умственную и телесную деятельность. В ушах, шее и щеках возникло какое-то музыкальное ощущение, напоминавшее дрожь; постепенно оно распространилось на все тело. Затем появилось ощущение отключенности — мои конечности исчезли. Спокойствие, подобное глубокой ночи, слилось с уединением вечера и наполнило все мое существо. В то время я не имел понятия о дзадзэн, но когда я таким образом стоял, это было прекрасным случаем самадхи.
Постепенно сгустились сумерки, стало совсем темно, над покинутым лугом послышался тихий звук приближающихся шагов. Шорох… Мне показалось, что прошел какой-то человек с собакой, и я пришел в себя, подумав, что наступило время идти домой. Я начал осторожно двигаться, проявляя величайшие старания, что-бы не потревожить невозмутимый покой самадхи, медленно и не-iторопливо сделал шаг и направился домой. Существовала полная гармония с покоем темнеющих холмов и долины; это был континуум ежесекундного безмятежного счастья.
Приблизительно с того времени в мой ум стало прокрадываться некоторое презрительное чувство по отношению к миру людей; оно постепенно овладело мною. Обманчивая жизнь взрослых казалась отвратительной; чудесный мир пасторальной поэзии, резко (противоположной мирской жизни, возникал в уме, как приятное воспоминание. Однако, к моему сожалению, когда я стал старше, я почувствовал, что легендарная Страна Персикового источника покидает меня. Много раз я оглядывался назад и старался вновь уловить прошедший сон.
С одной стороны, мне хотелось удержать свою мимолетную весну, с другой — меня отталкивал мир взрослых людей, мир борьбы и обмана. Я дал клятву никогда не позволить себе вступить в этот мир лжи и алчности, никогда не запачкаться ими.
Но что же произошло в действительности? «Когда три части тела покрылись волосами, ты не слушаешь родителей». Случилось не только это: я не слушал также собственного внутреннего голоса. Подрастая, я забыл о своем отвращении к обыденной жизни и рабски погряз в ней. Я предавался всевозможным порокам: бессердечию, жестокости, ненависти, воровству, обману, лести.