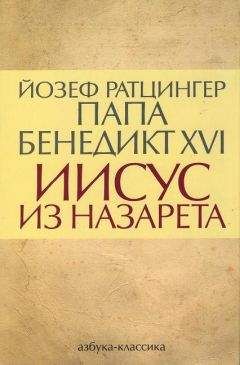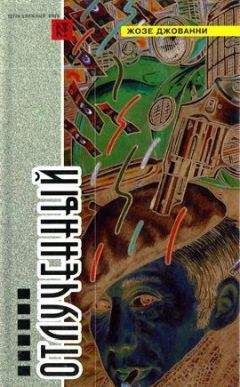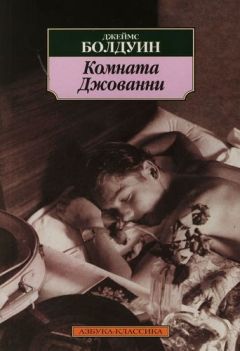Эти упоминания, позволяющие судить об авторстве четвертого Евангелия, дополняются указанием на его внутренний источник, которое нам дается в рассказе о Тайной вечере. Там об этом ученике говорится, что он занимал место возле Иисуса и «припал к груди Иисуса» (Ин 13:25), когда ему выпало спросить у Него, кто же станет предателем. Эти слова совершенно сознательно соотнесены с финалом первой главы Евангелия от Иоанна, где мы читаем об Иисусе: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1:18).[51] Подобно тому как Иисус, припав к груди Отца, из сердца Его обретает знание о тайне Его, так и евангелист, покоясь на груди Иисуса, из сердца Его, из своего внутреннего пребывания в Нем черпает свое знание.
Но кто же все-таки этот ученик? Евангелие ни разу не называет его по имени — указывает лишь на его связь с Петром и некоторыми другими учениками и тем самым как будто подводит к тому, что это может быть Зеведеев сын Иоанн, хотя это до конца так и остается непроясненным. Евангелие совершенно сознательно не раскрывает этой тайны. Примечательно, что в Апокалипсисе, наоборот, имя автора названо уже в самом начале (Откр 1:1, 4); однако, несмотря на близкую связь между Апокалипсисом, Евангелием от Иоанна и Посланиями Иоанна, вопрос о том, является ли их автор одним и тем же лицом, все же остается открытым.
Ульрих Вилькенс в своем обширном исследовании «Богословие Нового Завета» выдвинул недавно тезис о том, что «возлюбленного ученика» следует рассматривать не как историческую фигуру, а как один из структурных элементов веры: «Писание не существует без „живого голоса“ Евангелия, а „живой голос“ не существует без личного свидетельства простого христианина, выполняющего функцию „возлюбленного ученика“ и наделенного авторитетом этого „возлюбленного ученика“, в котором соединяются, укрепляя друг друга, долг служения и Дух» (Wilckens, 158). При всей верности этого суждения о структуре веры, оно тем не менее представляется недостаточным для ответа на наш вопрос. Если «возлюбленный ученик» в Евангелии берет на себя функцию свидетеля истинности происшедших событий, то в этом случае он представляет себя как живого человека: он хочет, как свидетель, как очевидец, подтвердить достоверность событий в реальной истории и тем самым возвести себя в ранг исторического лица; в противном случае все слова, определяющие цель и суть Евангелия, превращаются в пустые фразы, лишаясь своего содержания.
Со времен Иринея Лионского церковная традиция единодушно считает Иоанна, сына Зеведеева, «возлюбленным учеником» и автором четвертого Евангелия. Это как будто вполне соответствует тем намекам, которые содержатся в Евангелии и которые со всею определенностью указывают на то, что речь в данном случае идет об одном из апостолов, который сопровождал Иисуса с момента Крещения в Иордане до Тайной вечери, Креста и Воскресения.
В Новое время, однако, это толкование было подвергнуто серьезному сомнению. Мог ли рыбак, промышлявший на Генисаретском озере, написать высокий текст Евангелия, наполненный глубочайшими прозрениями Божественной тайны? Мог ли он, житель Галилеи, простой человек, быть связанным и по языку, и по мысли с иерусалимской аристократией, с верхушкой священства, как был связан с нею подлинный евангелист? Мог ли он состоять в родстве с семьей первосвященника, на что как будто намекает текст (Ин 18:15)?
Французский экзегет Анри Казель, опубликовавший, в продолжение исследований Жана Кольсона, Жака Винанди и Мари-Эмиля Буамара, специальную работу, посвященную социологии храмового священства тех времен, убедительно показал, что подобная атрибуция вполне возможна. Священники отправляли свою должность по очереди, так что на каждого приходилось по два срока продолжительностью в одну неделю. По окончании службы священник возвращался в родные места, где он, чтобы прокормиться, посвящал себя совершенно другим занятиям; то, что священники владели, как правило, еще и другими, дополнительными профессиональными навыками, было тогда в порядке вещей. Судя по тексту Евангелия, Зеведей не был простым рыбаком; известно, что он держал наемных работников, именно это обстоятельство и позволило его сыновьям спокойно уйти из дому. «Зеведей вполне мог быть священником и при этом иметь собственность в Галилее, обеспечивая себе существование рыбным промыслом. Скорее всего, в Иерусалиме у него было временное жилье неподалеку от той части города, где селились ессеи» (Cazelles, 481). «Трапеза, во время которой этот ученик „возлежал у груди Иисуса“, происходила в доме, находившемся вероятнее всего в том районе, где жили ессеи», — во «временном жилище» священника Зеведея, который «предоставил Иисусу и двенадцати ученикам верхние покои» (Ibid., 480 f.). В связи с этим Казель приводит одну интересную подробность: по иудейскому обычаю, хозяин дома, а в его отсутствие старший сын хозяина, занимает место по правую руку от гостя, «к груди которого он припадает головой», как об этом и сказано в Евангелии от Иоанна (Ibid., 480).
Таким образом, современный уровень исследований позволяет с большой долей вероятности сказать, что Иоанн, сын Зеведеев, и был тем самым свидетелем, о котором сообщается в Евангелии (Ин 19:35), и, следовательно, он может считаться истинным автором четвертого Евангелия. Тем не менее это не снимает некоторых вопросов из комплекса проблем, связанных с историей сложения самого текста, вобравшего в себя разновременны́е редакционные наслоения.
В этой связи представляется важным обратить внимание на сведения, которые сообщает нам историк Церкви Евсевий Памфил, епископ Кесарийский. В своей «Церковной истории» он пишет среди прочего о пятитомном труде Папия Иерапольского и приводит цитату, в которой Папий говорит о том, что хотя он и не знал лично святых апостолов, но веру свою получил от тех, кто был близок к ним. При этом Папий Иерапольский упоминает других учеников Иисуса и называет имена Аристиона и пресвитера Иоанна. Примечательно, что при этом он не отождествляет святого апостола и евангелиста Иоанна с Иоанном-пресвитером. Если с первым ему уже не довелось познакомиться, то со вторым он встречался не раз (Kirchengeschichte, III, 39).[52]
Эти сведения представляются необычайно важными: по ним и по другим свидетельствам подобного рода мы можем судить о том, что в Эфесе существовало нечто вроде школы Иоанна, которая вела свою историю непосредственно от любимого ученика Иисуса и в которой затем определяющую роль стал играть пресвитер Иоанн, наделенный особым авторитетом. Этот пресвитер Иоанн появляется во Втором и в Третьем посланиях Иоанна (2 Ин 1:1; 3 Ин 1:1) как их составитель и называется просто «пресвитер» (без добавления имени Иоанн).[53] Совершенно очевидно, что он и апостол два разных лица. При этом следует отметить, что пресвитер, предстающий в каноническом тексте под этим загадочным «именем», был, судя по всему, тесно связан с апостолом и, быть может, даже лично знал Иисуса Христа. После смерти апостола он выступает как его душеприказчик, взяв на себя роль распространителя его наследия. Вот почему со временем эти два образа слились в один. Как бы то ни было, следует, видимо, признать, что окончательный текст четвертого Евангелия сложился при самом деятельном участии «пресвитера Иоанна», который мог взять на себя эту ответственность по праву доверенного лица, сохранившего Предание в том виде, в каком он воспринял его непосредственно от самого Иоанна, сына Зеведеева.
Все эти данные позволяют сделать вполне определенные выводы, и я совершенно согласен с Петером Штульмахером, который пишет о том, что «все содержание четвертого Евангелия восходит непосредственно к тому ученику, которого Иисус любил больше других. Пресвитер же считал себя его преемником, его рупором» (Stuhlmacher, II, 206). В том же духе высказываются и Ойген Рукштуль и Петер Дшулниг: «Составитель текста Иоаннова Евангелия был чем-то вроде „правопреемника“, распоряжающегося наследием любимого ученика Иисуса» (Ibid., 207).
Приведенные выше сведения существенно продвинули нас в решении вопроса об исторической достоверности четвертого Евангелия. Мы увидели, что оно, так или иначе, основывается на свидетельствах очевидца, а его окончательная редакция вышла непосредственно из круга учеников живого свидетеля событий, который облек одного из них особым доверием.
Размышляя далее в этом направлении, Штульмахер выдвигает предположение, «что в Иоанновой школе получил свое дальнейшее развитие тот умственный настрой и стиль учительствования, который определял характер бесед в узком кругу учеников Иисуса, когда Он разговаривал с Петром, Иаковом и Иоанном или когда обращался ко всем двенадцати апостолам вместе. <…> Если апостолы и ученики, как показывает нам синоптическая традиция, учили об Иисусе, исполняя свое служение внутри церковных общин, то в кругу последователей Иоанна это учительское служение дополнялось внутренними обсуждениями, одной из тем которых была тайна Откровения, тайна явления Бога в Сыне» (Ibid., II, 207). На это, правда, следовало бы возразить, что в самом тексте Евангелия беседам Иисуса с ближайшими учениками отводится значительно меньше места, чем Его речам, адресованным верхушке храмового священства, в диалогах с которым уже угадываются очертания будущего судилища над Ним, а центральным вопросом становится вопрос «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» (Мк 14:61): повторяемый в разных формах, он неизбежно выдвигается на первый план, составляя зерно конфликта, который становится тем более драматичным, чем тверже Иисус настаивает на Своем Богосыновстве.