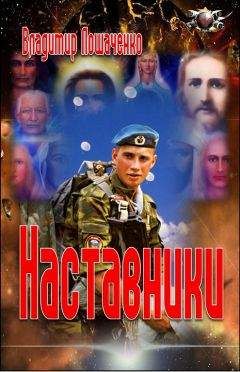Одному из отцов Восточной церкви, Филоксену Маббугскому, принадлежит довольно тонкое и своеобразное толкование первородного греха как искажения веры посредством достраивания верований к «наивному», непосредственному восприятию истины, в результате чего прямое познание оказалось извращено ложными утверждением и отрицанием. Любопытно, что именно люди, больше других высмеивающие религию, возводят между собой и реальностью стену из верований, основанных на превратном понимании своих интересов и на страстной привязанности. Утверждение, что эти верования прагматически «работают», – обман ещё более губительный. Как правило, плоды этой «работы» – искажение вещей в результате своекорыстного воздействия внешнего человека и ещё большее искажение самого человека. Подобные верования берут начало во внутренней отчуждённости человека и ею же питаются.
Во всяком случае, мысль Филоксена поразительно близка эпистемологии дзен-буддизма. Последний тоже более всего стремится рассеять пелену самообмана, набрасываемую на реальность нашими суждениями о ней, и ищет прямого, непосредственного восприятия, в котором упраздняется разделение на субъект и объект. Именно поэтому дзен решительно отказывается давать абстрактные, догматические ответы на религиозные или философские вопросы. Вот типичный пример дзенского диалога, в котором наставник последовательно отметает все попытки учеников протиснуть отвлечённое учение между разумом и «этим», находящимся у них под носом:
Когда Сэкито увидел Токусана, погружённого в медитацию, он спросил:
- Что ты здесь делаешь?
- Я ничего не делаю, – ответил Токусан.
- Если это так, значит, ты сидишь без дела?
- Сидеть без дела – тоже своего рода занятие.
- Ты говоришь, что ничего не делаешь, – продолжал настоятельно Сэкито, – но что такое то, чего ты не делаешь?
- Даже древние мудрецы этого не знали, – ответил Токусан.
(Suzuki, Studies in Zen, p. 59)
Когда же ученики в надежде услышать вероучение спрашивали наставника «Что значит дзен?», тот обычно отвечал: «откуда мне знать?» или «спроси об этом вон тот столб», или «дзен – этот кипарис во дворе!»
Ясно, что человек внешний склонен смотреть на вещи с экономической, технической или гедонистической точки зрения, которая при всех её прагматических преимуществах уводит его от непосредственного контакта с реальностью. Основополагающие для материального интереса и спекулятивной науки субъект-объектные отношения – одно из главных препятствий к созерцанию. Конечно, я не имею в виду такие исключения, как интуитивное, синтетическое миросозерцание, венчающее исследования Эйнштейна или Гейзенберга. Вселенная Эйнштейна – один из ярчайших примеров «созерцания» нашего столетия, хотя и в особом, специфическом смысле слова «созерцание». Несомненно, умозрение здесь преобладало над технологией. И всё же атомная бомба обязана своим происхождением отчасти таким вот «созерцателям»!
Не надо думать, что глубина восприятия достигается путём индивидуального самоутверждения, в противоположность отождествлению себя с какой-нибудь группой или человечеством в целом. Различие, опять же, в перспективе. К открытию внутреннего «я» не приходят путём размышлений типа «я не такой, как другие». Подобные мысли могут, конечно, иметь место, но не должны играть слишком существенной роли. Напротив, можно смело утверждать, что ни один человек не может реализовать себя по-настоящему до тех пор, пока не осознает себя частицей какой-либо общности – тем «я», которое отлично от восполняющего его «ты». Другими словами, внутреннее «я» видит в другом не ограничение для себя, а своё восполнение, «другое я», с которым оно, в известном смысле, себя отождествляет, так что двое становятся «одним целым». Единство в любви – одно из наиболее характерных проявлений внутреннего «я» – одновременно и обособленного от других, и единого с ними в высшем плане, там, где царит духовное одиночество. Здесь все «утверждения и отрицания» сходят на нет в духовном осознании, которое, в свою очередь, есть плод любви. И это одна из особенностей христианского созерцательного сознания. Христианин не просто «один на Один» с Богом (как у неоплатоников), но един со своими «братьями во Христе». Его внутреннее «я» действительно неразрывно с Христом, а значит, таинственным и уникальным образом – и с другими «я», живущими во Христе, так что все вместе они образуют «мистическую Личность», которая есть «Христос».
"Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня... Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино..." (Ин. 17:21,23).
Теперь понятно, почему для христианина самореализация не может быть простым утверждением своей индивидуальности. Внутреннее «я» – это святилище нашего личного одиночества, но парадоксальным образом всё самое одинокое и личное в нас едино с «Ты», которое нам противостоит. Мы не способны на глубокое единение с другими до тех пор, пока внутреннее «я» каждого из нас не пробудится настолько, чтобы быть готовым стать лицом к лицу с внутренним «я» другого. Это взаимное узнавание есть любовь «в Духе», Святым Духом и порождаемая. Согласно апостолу Павлу, внутреннее «я» каждого из нас есть наш «дух», или пневма, или, другими словами, – Дух Христа, воистину Сам Христос, обитающий в нас: «для меня жизнь – Христос» (Флп. 1:21). Узнав духом Христа в нашем брате, мы становимся с ним «одно во Христе», соединяемся с ним Духом. Как сказано в одном таинственном месте у святого Августина: мы становимся «Христом, любящим Самого Себя».
В том же толковании святого Августина на 41-й псалом, где речь шла о пробуждении внутреннего «я», – мы находим утверждение, что Бога нужно искать среди верующих, соединённых в Нём любовью: «внутри» их духовного «я» и «поверх» него. Все эти утверждения нужно, однако, принимать с осторожностью, если мы не хотим запутаться. Во-первых, Августин нигде не говорит, что Бога надо искать в общности как таковой. Во-вторых, речь идёт о чём-то большем, чем номинальное сообщество: мистический Христос – это духовное тело, организм живущих любовью. И силой этой любви человек поднимается над границами коллективного «я» верующих – к Богу, обитающему внутри них и выше них.
"Как меня восхищает эта скиния (Церковь): победа над собой, добродетели рабов Божиих. Я любуюсь добродетелями, что венчают душу... (Но он идёт выше скинии, к Дому Божиему, то есть от Бога, обитающего в святых, к Самому Богу.) И когда я вхожу в дом Божий, я застываю в изумлении. Там, во святилище Бога, в Его Доме, бьёт источник разумения. Именно восходя к этой скинии, псалмопевец оказывался в доме Божием: он следовал зову радости, внутреннему, таинственному, тайному утешению, словно шёл на звук сладкозвучного инструмента, играющего в Доме Божием. Идя к скинии, слушая внутреннюю музыку, повинуясь её сладости и водительству, удаляясь от всякого шума плоти и крови, он добирается до дома Божиего"
(Translation from Butler, Western Mysticism, p. 23).
Ясно, что любовь, которая есть жизнь и пробуждение внутреннего «я», пробуждается присутствием и духовным влиянием других «я» во Христе. Святой Августин говорит о познании внутреннего «я» других христиан через добрые дела, которые те творят и которые являют обитающего в них Духа. Можно сказать, что в этом взаимном узнавании внутреннего «я», являющем тайну Христа, и заключается христианское «наставление».
Иначе говоря, только любовь пробуждает внутреннее «я», а любви не может быть там, где нет «другого», которого можно любить. Более того, человек не может пробудить своё внутреннее «я», любя одного лишь Бога – нужно любить и других людей. Здесь снова необходимо движение трансцендирования, возносящее дух над «плотью и кровью».
Возвысившись «над плотью и кровью», любовь не становится ни бледной, ни бесстрастной, но любовь, в которой страсть возвышена и очищена самоотверженностью, перестаёт повиноваться природному инстинкту. Водимая Духом Христа, такая любовь ищет блага для другого, а не удовольствия или сиюминутной выгоды для себя. Более того, не разделяя более своей выгоды и выгоды ближнего, она пребывает в любви ради самой любви и стремится к истине во Христе не потому, что та ей желанна, а потому, что та истинна и блага сама по себе. Такая любовь одновременно есть высшее благо и для нас, и для других, и в такой любви «все едино» (Ин. 17:21).
Тщетно искать пробуждения и реализации внутреннего «я» в простой изоляции. Впрочем, некоторое уединение может быть необходимо, если мы хотим воспользоваться преимуществами одиночества, – лишь бы только мы стремились к нему ради высшего единства, в котором наше одиночество не исчезает, а достигает совершенства, потому что на этом уровне уже нет места манипуляции любовью посредством низости или лести. Одиночество необходимо для духовной свободы. Но обретённая свобода должна быть поставлена на службу любви, в которой нет ни рабства, ни подчинения. Простое бегство от людей, без претворения свободы в действия, может привести лишь к духовному застою, подобному смерти, в котором внутреннее «я» никогда не пробудится. Внутри нас не будет тогда ни света, ни голоса – только мрак и гробовое молчание.