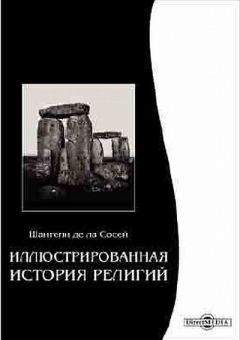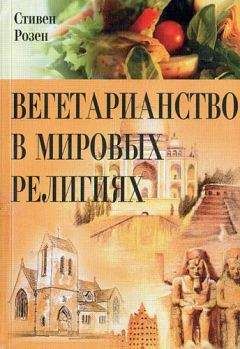умиротворения масс, и особенно потребность власти в ее легитимизации религией - все это обусловило то различное отношение религий к политической жизни, которое мы обнаруживаем в истории. Почти во всех своих формах оно сводилось к релятивизации религиозных ценностей и их этически рациональных законов. Самым значительным в практическом отношении типом такой релятивизации была «органическая» социальная этика, распространенная в различных формах, чьи концепции профессионального призвания представляли принципиально наиболее существенную противоположность идее профессионального призвания, присущего мирской аскезе. Упомянутая этика также основана (в тех случаях, когда она религиозно окрашена) на «братстве». Однако, в отличие от мистического акосмизма любви, ее призыв к братству носит мирской, рациональный характер. Отправным пунктом служит неравенство религиозной харизмы. Для данной этики непереносимо именно то, что спасение доступно не всем, а лишь немногим. Такая социальная этика направлена на то, чтобы свести это неравенство харизматической квалификации вместе с мирским сословным расчленением к космосу профессионально упорядоченных, угодных Богу свершений, в пределах которых каждому индивиду и каждой группе в зависимости от их личной харизмы и обусловленного судьбой социального и экономического положения предназначены определенные задачи. Как правило, такая социальная этика стремится к осуществлению некоего социально-утилитаристски и провиденциально интерпретированного состояния, которое, несмотря на свой компромиссный характер, все-таки будет угодно Богу и при всей греховности мира позволит хотя бы относительно ограничить область греха и страдания, сохранить и спасти для Царства Божьего по возможности больше душ, которым в противном случае угрожает гибель. Вскоре мы познакомимся со значительно более патетической теодицеей, которую индийское учение о карме вывело из органического учения об обществе, исходя из ориентированной на интересы индивида прагматики спасения. Без этого момента каждая органическая социальная этика неизбежно расценивается с точки зрения радикальной мистической этики братства как приспособление к интересам привилегированных в миру слоев, тогда как с позиций мирской аскезы она лишена внутреннего импульса к этической рационализации индивидуальной жизни. Ибо в ней отсутствует награда за рациональное методическое формирование отдельным человеком своей жизни в интересах собственного спасения. Органическая же прагматика спасения должна, в свою очередь, рассматривать аристократизм избранных, присущий мирской аскезе с ее рациональной конкретизацией образа жизни, как крайнее
20
проявление отсутствия любви и братства, а учение мистиков - как сублимированное, в действительности же небратское наслаждение собственной харизмой, в котором расплывчатый акосмизм любви служит только эгоистическим средством спасения. Ведь оба эти учения отвергают социальный мир, рассматривая его в конечном счете как абсолютную бессмыслицу или считая, во всяком случае, что помыслы Божий, устремленные к миру, совершенно непостижимы. Рационализм религиозного органического учения об обществе не может примириться с этой мыслью и пытается, в свою очередь, обнаружить в мире при всей его греховности следы божественного предначертания к спасению, следовательно, воспринять его как хотя бы относительно рациональный космос. Именно эта релятивизация, однако, является для виртуозной религиозности, с ее абсолютным обладанием харизмой, греховной и отдаляющей от спасения. Подобно тому как экономическая и рациональная политическая деятельность следуют собственным, присущим им законам, так и вообще рациональная деятельность в миру неизбежно остается связанной с чуждыми идее братства мирскими условиями, которые должны служить ей средствами или целями, и поэтому так или иначе придет в столкновение с этикой братства. Однако этот разлад она несет уже в себе самой. Ибо нет, по-видимому, возможности найти ответ уже на первый вопрос: что должно в каждом отдельном случае определять этическую ценность действия: успех или этически определяемая ценность самого действия. Следовательно, возникает вопрос, снимают ли - и в какой степени - ответственность действующего лица за последствия его действий используемые им средства или, наоборот, ценность внутреннего убеждения, лежащего в основе его деятельности, дает ему право не нести ответственность за последствия и считать, что они обусловлены волей Бога или допускаемой Богом преступностью и безумием мира. Сублимированная религиозная этика убеждения склонна ко второй альтернативе: «Христианин поступает праведно, а в остальном уповает на Бога». Тем самым, однако, в реальной последовательности деятельность индивида становится иррациональной по отношению к автономным законам мира16 Поэтому последовательность сублимированного стремления к спасению может в своем усилении акосмизма дойти до полного отрицания рациональной по цели деятельности просто как таковой, т. е. всякой деятельности, связанной с категориями средства и цели как мирской и чуждой божественному промыслу, что и происходило, начиная с библейского уподобления лилиям в поле17 до более принципиальных формулировок буддизма. Органическая социальная этика повсюду выступает как в высшей степени консервативная, враждебная преобразованиям 21
сила. В подлинно виртуозной религиозности, напротив, при известных обстоятельствах могут возникать иные, революционные следствия. Конечно, лишь в том случае, если прагматизм насилия - то обстоятельство, что оно, в свою очередь, вызывает насилие, меняя только субъекты и методы насильственного господства, - не рассматривать как непременное свойство всего тварного. В зависимости от окраски виртуозной религиозности ее революционность может в принципе принимать две формы. Одна возникает в сфере мирской аскезы, повсюду, где она может противопоставить рукотворному и греховному эмпирическому устройству мира абсолютное божественное «естественное право», реализация которого согласно действующему в том или ином смысле во всех рациональных религиях закону - послушание Богу важнее послушания человеку - становится для нее религиозным долгом. Примером могут служить пуританские революции; близкие явления можно обнаружить и в других областях. Такая позиция вызывает необходимость религиозной войны. По-иному это происходит при психологически возможном переходе мистика от ощущения близости Бога к одержимости этой идеей. Возможно это тогда, когда вспыхивает эсхатологическое ожидание непосредственно приближающегося века акосмического братства и исчезает, следовательно, вера в вечное противоречие между миром и иррациональным потусторонним царством вечного спасения. Мистик становится спасителем и пророком. Однако заповеди его не носят рациональный характер. Будучи продуктом его харизмы, они являются откровениями конкретного типа, и радикальное неприятие мира легко переходит здесь в радикальную анодмию.18 Мирские заповеди не имеют никакого значения для того, кто уверен в своей близости Богу: «???? ??????i??». Все хилиастические19 учения вплоть до революции анабаптистов20 так или иначе основаны на этом. Характер деятельности не имеет значения для избранного к спасению в силу самого факта его избранности. Подобное явление мы обнаруживаем и у индийских дживанмукти21. Если этика религиозного братства находится в противоречии с законами рациональной по цели деятельности в миру, то не. менее сложны ее отношения с теми силами мирской жизни, сущность которых в основе своей нерациональна или антирациональна. Прежде всего с эстетической и эротической сферами. В тесной связи с первой находится магическая религиозная жизнь. Идолы, иконы и другие религиозные артефакты22, магическая стереотипизация их испытанных форм как первый этап преодоления натурализма с помощью фиксированного «стиля», музыка как средство экстаза или экзорцизма23 апотропеической магии24, колдуны в качестве священных певцов и танцоров, магически проверенные и поэтому 22
магически стереотипизированные отношения тонов в качестве подступа к тональностям, магическое и проверенное средство экстаза - движение в танце как один из источников ритмики, храмы и церкви, возвышающиеся над всеми другими зданиями, воздвигнутые по законам формирующей стиль стереотипизации архитектурной задачи посредством раз и навсегда установленных целей и магически проверенных архитектурных форм; церковная утварь разного рода как предметы прикладного искусства в сочетании с возникшим как следствие религиозного рвения богатством храмов и церквей - все это испокон веков делало религию неисчерпаемым источником возможностей для развития искусства, с одной стороны, источником стилизации на основе традиции - с другой. Для этики религиозного братства, так же как для априорного ригоризма, напротив, искусство в качестве носителя магических действий не только т.е. обладает ценностью, но вызывает прямое подозрение. Сублимирование религиозной этики и поиски путей к спасению, с одной стороны, и развитие собственных законов искусства - с другой, уже сами по себе создают все более обостряющееся напряжение. Всякая сублимированная религия спасения ищет только смысл и остается равнодушной к форме релевантных для спасения души вещей и поступков. Форма рассматривается как нечто случайное, рукотворное, отвлекающее от смысла. Непосредственность в отношении к искусству может, правда, сохраняться или все время восстанавливаться до тех пор, пока сознательный интерес реципиента наивно связывается с содержанием произведения, а не с формой как таковой и пока деятельность созидающего ощущается им как харизма (первоначально магическая) «умения» или как свободная игра. Однако развитие интеллектуализма и рационализация жизни вносят изменения в эту сферу. Искусство конституируется теперь как некий космос все более осознанно постигаемых самостоятельных ценностей. Оно берет на себя функцию различным образом толкуемого мирского спасения - спасения от растущего гнета повседневности и, прежде всего, от усиливающегося давления теоретического и практического рационализма. Тем самым оно вступает в прямую конкуренцию с религией спасения. Каждая рациональная религиозная этика должна отнестись к этому иррациональному спасению в миру как к сфере, - с ее точки зрения, - безответственного наслаждения и скрытого отсутствия любви к ближнему. И в самом деле, исчезновение чувства ответственности за этическое суждение, свойственное эпохам интеллектуализма, отчасти из субъективизма, отчасти из страха прослыть сторонником традиционных взглядов и филистером, ведет к преобразованию этических суждений во вкусовые - речь уже идет о безвкусном, а не об 23