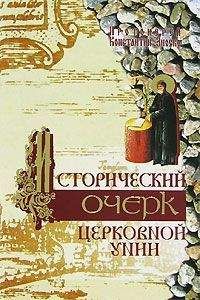В истолковании православных богословов VIII—IX вв., сражавшихся с иконоборчеством, икона Христова становится исповеданием веры в Воплощение:
Неначальное зачалось в утробе Девы [пишет Феодор Студит]; Неизмеримое стало высотой в три локтя [357] ; Бессвойственное обрело свойство; Беспредельное стояло, сидело, ложилось; Тот, Кто повсюду, поместился в яслях; Тот, Кто превыше времени, исподволь достигает двенадцатилетнего возраста; Тот, у Кого нет образа, является в облике человеческом, а Бестелесное входит в тело… . Следовательно, Он является описуемым, и неописуемым [358].
Для Феодора икона Христова — лучшая из возможных иллюстраций того, что разумеется под ипостасным единством. То, что является в образе, это Сама Ипостась Божиего Слова во плоти. В византийской традиции в ореол вокруг головы Иисуса принято вписывать «Один Кто есть». Это эквивалент священного ветхозаветного имени YHWE (Яхве), Имени Божиего, Лицо Которого нам открылось, но Сущность Которого для нас непостижима и недоступна. Это не есть неописуемая Божественность Божия и не одно лишь Его человеческое естество представлены на иконе, но Лицо Божиего Сына, принявшего плоть. «Всякое изображение, — пишет Феодор, — есть изображение Ипостаси, а не природы» [359].
Написать изображение Сущности Божией прежде Его Воплощения очевидно невозможно; точно так, как невозможно представить человеческую природу как таковую, — она может быть отображена лишь символически. Поэтому символические образы ветхозаветных богоявлений не есть вполне «иконы» в истинном смысле слова. Но икона Христова является совсем другим. Телесные очи могли видеть Ипостась Логоса во плоти, хотя ее Божественная Сущность оставалась сокровенной; именно эта тайна Воплощения и делает возможными священные иконы и требует почитания их.
Защита икон вынудила византийскую мысль вновь утвердить полную конкретную человечность Христову. Дополнительное доктринальное постановление к монофизитству Византийская Церковь выработала еще в VIII—IX вв. Но важно признать, что эта позиция была занята не ценою доктрины об ипостасном единстве либо Кириллова разумения ипостасной тождественности Воплощенного Логоса, а строилась в свете прежних христологических формулировок. Победа над иконоборчеством явилась новым подтверждением халкидонской и пост–халкидонской христологии.
Халкидонское определение провозгласило Христа единосущным не только Своему Отцу, но и «нам». Поэтому и будучи вполне Человеком, Христос не обладает человеческой ипостасью, ибо Ипостась Его обеих природ — это Божественная Ипостась Логоса. Каждый человеческий индивид вполне «единосущен» своим ближним, другим людям, и тем не менее коренным образом отличается от них своей единственной, неповторимой и неподражаемой личностью, то есть ипостасью: ни один человек не может вполне пребывать в ином человеке. Но Ипостась Иисуса имела основополагающее сходство со всеми прочими человеческими личностями: она была для них образцом. Ибо, разумеется, все люди созданы по образу Божию, то есть по образу Логоса. Когда Логос стал воплощенным, Божественная печать совместилась со своим оттиском: Бог принял человечность таким образом, который не исключал никакую человеческую ипостась, но который открыл всем им возможность к восстановлению их единения в Себе. Он стал «Новым Адамом , в Котором каждый человек обретает свою собственную природу, осуществленную в совершенстве и полноте, без ограничений, которые могли бы быть неминуемы, будь Иисус лишь человеческой Личностью.
Именно такова концепция Христова, которую имел в виду Максим Исповедник, вновь подчеркивая древний, восходящий к апостолу Павлу, образ «воссоздания возглавления» относительно воплощенного Логоса [360] и усматривая в Нем победу над разрушительными разделениями в человечности и человечестве. Как Человек Христос «выполняет во всей истине подлинное человеческое предназначение, которое Он сам предопределил как Бог и от которого человек отвратился: Он воссоединил человека с Богом» [361]. Поэтому халкидонская и постхалкидонская христология была бы бессмысленным умозрением, не будь она ориентирована на понятие искупления. «Вся история христологического догмата определялась этой основной идеей: Воплощение Слова как Спасение» [362].
Византийское богословие не произвело каких–либо значительных разработок учения Павла об оправдании, выраженного в его Посланиях к Римлянам и Галатам. Греческие патристические комментарии к таким фрагментам, как Гал. 3:13 («Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою»), как правило истолковывали идею искупления через подмену в более широком контексте победы над смертью и освящения. Греческие отцы никогда не развивали этой идеи в направлении теории Ансельма об «удовлетворении». Добровольное приятие человеческой смертности Логосом было деянием Божией снисходительности», которым Он соединил с Собою все человечество; ибо, как пишет Григорий Богослов, «что не принято, то не исцелено, а что соединено с Богом, то спасено» [363]; следовательно, «мы имели нужду в том, чтобы Бог сделался плотью и поддался смерти, Дабы мы смогли снова жить» [364].
Смерть «Единого от Святой Троицы во плоти» была добровольным актом, добровольным приятием Богом всего объема человеческой трагедии. «Нет в Нем ничего от понуждения или необходимости; все свободно: волею Он бывал голоден, волею жаждал, волею тревожился и волею Он умер» [365]. Но — ив этом существенное различие между православными и афтартодокетами — эта Божественная свобода Ипостаси Логоса не ограничила реальность тех условий, в которых Он жил как Человек: Господь принял смертную человечность в самый момент Воплощения, когда уже принято свободное Божественное решение умереть. «Он принял тело, не отличающееся от наших, — пишет Афанасий, — Он принял от нас природу, похожую на нашу, и, поскольку мы все подвластны тлению и смерти, Он отдал Свое тело смерти за нас» [366].
Мысль о кресте как цели самого Воплощения ярко выражена в византийских литургических текстах Рождества. Песнопения предпразднества (с 20 по 24 декабря) построены по образцу гимнологии Страстной седмицы, а смирение Вифлеема видится ведущим на Голгофу: «Смирною смерть, … проявляют царие языков, начатки дароносяще Тебе…», «Рожденный бо ныне плотию, во гроб и смерть хотел еси внити, паки воскреснути тридневен» [367].
Вопрос, имело бы ли место Воплощение, если бы не было Грехопадения, — никогда особенно византийцев не занимал; византийские богословы рассматривали конкретный факт смертности людей как космическую трагедию, в которой Бог через Воплощение лично — или, скорее, ипостасно — принимает участие. Главным и, похоже, единственным исключением из этого общего взгляда оказывается Максим Исповедник, для которого Воплощение и «рекапитуляция» всего сущего во Христе составляют истинную «цель» и «назначение» творения; Воплощение, следовательно, было предусмотрено и предназначено вне связи с трагическим злоупотреблением человека его человеческой свободой» [368]. Такой взгляд совершенно согласуется с идеей Максима о тварной «природе» как динамическом процессе, направленном к эсхатологической цели, — эта цель есть Христос Воплощенный Логос. Как Творец Логос есть «начало» творения, а как воплощенный Он есть также и «конец», когда все сущее будет существовать не только «через Него», но «в Нем». Чтобы быть «во Христе творение должно быть принято Богом, сделаться «Его собственным ; Воплощение, следовательно, есть предварительное условие окончательного прославления человека, независимо от его греховности и тленности.
Принимая во внимание падшее состояние человека, это конечное восстановление делается возможным через искупительную смерть Христа. Но смерть Христова воистину искупительна и «жизнедательна» именно потому, что это — смерть Сына Божия во плоти (то есть благодаря единой ипостаси). На Востоке крест виделся не столько наказанием праведного, которым «удовлетворяется» трансцендентная Справедливость, требующая воздаяния за грехи человеческие. Как правильно пишет Георгий Флоровский: «Смерть на Кресте возымела действие не как смерть Невинного, но как смерть Воплощенного Господа» [369]. Дело не в том, чтобы дать удовлетворение требованиям закона, но в том, чтобы преодолеть пугающую космическую реальность смерти, которая держала человечество под своей узурпированной властью и загоняла его в порочный круг греха и испорченности. И, как показал в своей полемике против ариан Афанасий Александрийский, один Бог в силах преодолеть смерть, ибо у Него «одного есть бессмертие» (1 Тим. 6:16) [370]. Точно так же, как первородный грех не состоит в унаследованной вине, так и искупление — это прежде всего не оправдание, но победа над смертью. Византийская литургия, следуя за Григорием Нисским, использует образ диавола, заглатывающего крючок, скрытый телом Эммануила; та же мысль обнаруживается в проповеди, приписываемой Златоусту и читаемой на Литургии в пасхальную ночь: «Ад принял тело, а встретил Бога; он принял смертный прах, а встретил лицом к лицу Небеса».