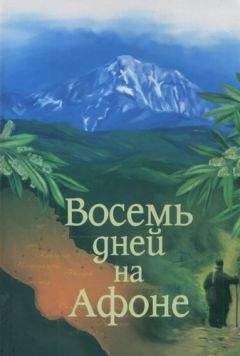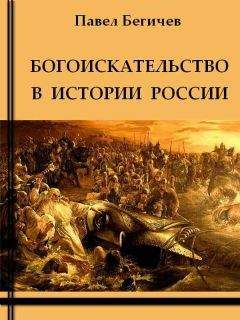— Согрелось. Вот я вам принёс, прочитаете после, — и ушёл, оставив на столике сложенный вдвое лист.
Это был ксерокс исповеди. И, судя по всему, составлена она была самим отцом Николаем. Мы — от, любопытные, — сразу читать начали, но остановились: всё должно идти по чину — сначала последование.
Чтение исповеди отца Николая — это отдельная песня. Я, конечно, читал и раньше общие исповеди, составленные разными отцами, но такого живого чтения ещё не случалось. Впрочем, здесь всё-таки можно списать на то, что рядом был Алексей Иванович, который то вздыхал, то погружался в такое молчание, что невольно хотелось, чтобы он начал вздыхать, то вдруг начинал хохотать, а то решительно пресекал чтение: «Ну, это не про нас, пропускай абзац». Но я читал всё. Мне казалось, что именно текст отца Николая делает нас такими отзывчивыми, он и в самом деле не воспринимался как обычный текст, а казалось, что я слышу спокойный мерный голос отца Николая, словно он разговаривает с нами. Он ещё без епитрахили, и мы просто беседуем о мире. И я сейчас не себя увидел, вернее сказать, не только себя — я мир увидел. Может, это неправильно: за собой надо следить, но эта исповедь говорила о мире, из которого мы явились. Её надо читать на большой площади. Всем миром. Только соберётся ли площадь батюшку слушать? Так только, где-нибудь между Шевчуком и Земфирой… Вот, если б без них, как ниневитяне[116]… А ведь и правда, времени на покаяние совсем мало. Какая-то ниточка удерживающая. Господи, укрепи тех незнаемых праведников, ради которых держится мир[117]. Долго ли? Разве мы не слышим стук в дверь[118]? Все эти землетрясения, наводнения, ураганы, СПИД, наркотики, нефть — это ли не стук в дверь?
И я читал всё. Даже то, что, казалось бы, и в самом деле отношения лично ко мне не имело. Вдруг представил, что вот сзади большая площадь — и я читаю. Даже то, чего не знаю, читаю. А отец Николай знает. И видит, и ужасается от этого проходящего образа[119]. И скорбит, и молится.
А мир безпечно висит себе на тоненькой ниточке, как ёлочный шарик…
Вот такая получилась подготовка к исповеди.
Мне приходилось задумываться, особенно по молодости, в чём, собственно, талант писателя? Ведь вот обычные слова: «Мороз и солнце — день чудесный!»[120] Ну никаких замысловатостей, чего-то необычного или поражающего глубинной мыслью. Но это так пробирает и такой сразу восторг в душе! Сразу всё видишь: и мороз, и солнце, да и всю искрящуюся округу. А сколько любви здесь к родине, вообще ко всему Богом устроенному миру! Так в чём талант? Что слова какие-то незнакомые или трудно расставить их в правильном порядке? Нетрудно. Вот и пишут сейчас все, кому не лень. А любви к миру не имеют. К себе, разве что. Но вот пусть талантище и пусть любовь. Как эта любовь оживает во мне через бумагу и краску? Я же чувствую её. Или — «нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу: зачем мне орден, я согласен на медаль»[121]. И здесь — любовь. А вот — «жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»[122], «но надо было продолжать жить и исполнять свои обязанности»[123]. И ведь и здесь — тоже. Свет русской литературы всем светит. О, русская литература, можно бесконечно множить примеры, но в чём секрет? Как передаётся эта живая любовь через мёртвое дерево и высохшую краску? Как надо любить, если даже через века я чувствую эту любовь: «Не пора ли нам, братия, начать словесы…»[124] — и не могу не откликнуться на неё?!
Талант не в искусном обращении со словом, не в препарировании и ломании строчек, не в придумывании форм, наворачивании сюжета и так далее, и тому подобное, чем чаще всего гордятся пииты. Это, конечно, бывает даже и любопытно, но главное — Любовь. Будет Любовь — даст Господь и Слово.
С этим я и благодарно уснул.
1
Спал я весьма чутко, возбуждения прошедшего дня, видимо, сказывались, а может, не хотелось проспать? И мне всё время слышался за окнами шум: то казалось, что это дождь, то слышались подъехавшая машина и какие-то голоса, то казалось, что всё это мне снится. Когда же показалось, что скрипят половицы в коридоре, я вытянул руку из тёплой спальной норки и посмотрел на часы: через десять минут должен запиликать будильник. Я подивился и обрадовался: это ангел упреждает меня — вставай, вставай, скоро Литургия в Ксилургу. И мне хотелось торопить день, хотелось быстрее войти в него и жить им. Я поднялся и стал одеваться. В это время раздался стук в дверь, негромкий и уверенный, как условный сигнал.
— Да-да, уже встали! — отозвался я.
И всё, что слышалось вне стен комнаты, исчезло. Зато ожило у нас. Взялся за свои часы и сел на кровати Серёга, заворочался отец Борис, до хруста потянулся Алексей Иванович.
— Что, Сашулька, на исповедь уже?
— Умываться.
Когда я вернулся, окончательно проснувшийся и открытый наступающему дню, спросил:
— А слышали, как ночью машина приезжала?
Алексей Иванович ещё не поднимался и печальным кошачьим взглядом наблюдал за мышиной вознёй в комнате.
— Ты, Сашулька, окончательно съехал, — отозвался он. — Забыл вчерашний лес-то? Какая тут машина?
И правда, какая мне разница, и я пошёл в церковь. Было темно. Грузно передвигаясь от подсвечника к подсвечнику, свет возжигал отец Мартиниан. Я следом за ним обошёл иконы и встал на своё (уже «своё»!) место. Я ждал отца Николая. Вот он выйдет, начнёт исповедовать и можно будет пересказать всё-всё, чтобы… чтобы что?.. Где-то глубоко-глубоко я почувствовал что-то нехорошее в желании исповедоваться именно отцу Николаю. Почему? Неужели потому, что хочу рассказать ему о себе, а не исповедоваться? Да, мне хочется, чтобы он, узнав меня, наставил, подсказал, объяснил, но разве это исповедь? Да, это исповедь, убеждал я себя, глуша нехорошее чувство, я для этого добирался до Ксилургу, для разговора с отцом Николаем. И опять кольнуло — «для разговора», а сейчас — исповедь.
Вышел из алтаря отец Николай, несколько секунд смотрел в пробитую жёлтенькими огоньками темноту.
— Поисповедуешь, что ль… — обратился он к отцу Мартиниану без всякого знака вопроса.
— А где?
— Да где хочешь. Вон у окошка можно. А ты, — это уже отцу Борису, — давай, что там у тебя, облачайся.
Отец Борис, показалось, подскочил от радости и бросился в комнату.
А я и не заметил, как собралась братия. День поскучнел. Я с завистью смотрел на пробежавшего в алтарь отца Бориса и думал о своём недостоинстве — отец Николай исповедовать не будет, он будет служить с отцом Борисом. А вот он достоин. И что я взъелся на него? Хороший же. Молодой только. Оттого и суетливый. А так, очень даже хороший. Не каждого Господь приведёт на Афон да ещё сослужить старцу в самом древнем русском ските. А я… А кто такой я?..
Разве отец Николай не видел, как я хотел с ним поговорить? Значит, не достоин. Я нищ, я наг, я слеп… Я вот других упрекаю, Алексея Ивановича извёл, над отцом Борисом потешаюсь… Я стал припоминать своё, и чем дольше припоминалось, тем явственнее становилось, что не требовать и обижаться должен, а благодарить, что вообще жив и Господь на Свою Святую Гору допустил.
Священники вышли к царским вратам и помолились перед службой. Отец Николай и отец Борис прошли в алтарь, а отец Мартиниан посмотрел на нас, и у меня в голове — хотите верьте, хотите нет — чётко высветилось: «Страшно впасть в руки Бога живаго»[125].
— Пошли, — выдохнул отец Мартиниан, и я понял, что никакого причастия сегодня не будет.
И поделом.
Отец Мартиниан, отодвинув вязанки свечей, встал у окна, положил на подоконник Евангелие, раскрыл канонник и, помолчав немного, предупредил:
— Помолимся для начала.
Читал он так же, как и вчера, словно сам каялся. И снова отдельные слова падали точно и только углубляли то, что вспомнилось мне. Я только пыль стёр — и ожила картинная галерея, а он пробивал стену, на которой висели картины, и невольно виделось глубже и дальше. Я, конечно, догадывался, но видеть так явно и осознавать, что это в тебе…
— Ну?
Я и не заметил, что отец Мартиниан закончил молитвы, теперь был слышен голос Володи, читающего часы.
Алексей Иванович подтолкнул меня, я шагнул, и тяжёлая рука пригнула меня к Евангелию. Отец Мартиниан склонился ко мне.
Он вздыхал и сокрушался вместе со мной, когда меня начинало заносить, останавливал, когда я запинался, подбадривал, где я не находил слова, говорил за меня…
Когда он разрешил меня и снял с головы епитрахиль, рубашка на мне была мокрой, озноб несколько раз пробирал меня и несколько раз жаром покрывалось тело. Но всё это было внешне и не волновало меня. Внутри я был выметен и прибран.
Я сложил руки под благословение. Отец Мартиниан разогнулся и благословил. Я всё не отходил.
— Гм, — то ли спросил, то ли приободрил отец Мартиниан.