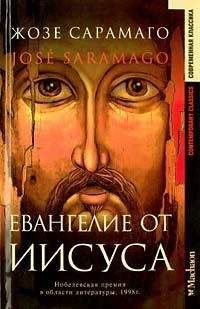Ладно, бросай, не разживемся, так при своем останемся.
Андрей закинул невод, и пришел он полный рыбы. Братья вытаращили на Иисуса глаза от удивления, сменившегося изумлением и оторопью, когда и во второй, и в третий раз закинутый невод возвращался полным. И из моря, воды которого недавно еще казались необитаемыми, как воды чистого ручейка, хлынул в изобилии невиданном сверкающий сплошной поток жабер, хребтов, плавников, так что в глазах зарябило. Спросили тогда Симон с Андреем, как узнал он, что именно теперь подошел косяк, неужто взгляд его хватает на такую глубину, неужто видит движение вод у самого дна? Но Иисус ответил, что ничего он не знал и сверхъестественной зоркостью не наделен, а просто пришло ему в голову: отчего бы не попробовать, не попытать счастья перед возвращением еще раз? Братья не усомнились в правдивости его слов – случай, как известно, и не такие чудеса творит, но Иисус, внутренне затрепетав, задал сам себе безмолвный вопрос: Кто сделал это? Сказал Симон: Дай Бог теперь разобрать улов, – и пользуемся случаем сообщить, что экуменически-всеядное выражение «На безрыбье и рак рыба» родилось уж точно не на берегу Генисаретского моря, ибо Закон не оставляет недомолвок в этом случае, как и во всех прочих, и говорит ясно: Из всех животных, которые в воде, ешьте сих: у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте; а все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас; мяса их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Так и было поступлено с сими последними, недостойными быть съеденными избранным народом, – их выбросили обратно, и многих – уже не в первый раз, так что иные успели даже привыкнуть к этому и, попадая в сеть, не слишком горевали, ибо знали, что скоро вернутся в родную стихию и задохнуться не успеют, и думали, должно быть, рыбьими своими мозгами, что Создатель испытывает к ним если и не любовь, то несомненное благорасположение, и почитали себя особенно сотворенными существами – много выше тех рыб, которые грудами лежали на дне лодок и баркасов, провинясь, наверно, в черном глубоководье пред Господом многообразно и тяжко, раз он так безжалостно обрекает их смерти.
Когда же наконец они причалили, что потребовало от рыбаков тысячи предосторожностей и всего их умения, поскольку вода стояла вровень с бортами перегруженной лодки, грозя перевернуть ее, люди на берегу не могли опомниться от удивления и допытывались о причинах такой неслыханной удачи, ибо другие рыбаки вернулись ни с чем, но ни один из троих, словно по дружному и безмолвному уговору, не стал распространяться про обстоятельства, сопутствовавшие изобильному лову. У каждого нашлись на то свои причины: Симон и Андрей не желали прилюдно умалять своих дарований и опытности; Иисус же не хотел, чтобы другие артели брали его с собой, передавая друг другу наподобие приманки, хотя, по крайнему нашему разумению, это было бы только справедливо, ибо разом прекратило бы наконец рознь между сыновьями и пасынками – от нее и так слишком много зла в нашем мире. Именно потому и объявил Иисус в тот же вечер, что на рассвете уходит в Назарет, чтобы повидать семью, в разлуке с которой и в скитаниях, в полной мере заслуживающих названия дьявольских – так трудны они и изнурительны, – провел уже четыре года. Очень огорчились его словам Симон и Андрей, лишавшиеся лучшего пастуха морской скотины, какого знавали за всю свою историю воды Генисарета, очень сожалели о его решении и двое других рыбаков, Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, юноши столь простодушные, что, когда их в шутку спрашивали: Кто отец сыновей Зеведеевых? – становились в тупик, терялись и, хоть, разумеется, знали ответ, будучи сыновьями этого самого Зеведея, отыскивали его, ответ этот, не сразу, а лишь после минутного томительного замешательства. Жалели они, что уходит Иисус, не потому лишь, что теряли возможность наловить уйму рыбы, нет: оба были еще совсем молоденькие – Иоанн даже младше Иисуса – и надеялись, что втроем будет им легче противостоять старшему поколению. А простодушие их проистекало не от тупоумия или врожденной придурковатости, а так уж получалось, что шли они по жизни, словно постоянно и напряженно размышляли о чем-то постороннем, вот и не могли так вдруг, сразу сообразить, как зовут отца сыновей Зеведеевых, и тем менее могли понять, отчего вокруг поднимается такой хохот, когда наконец с торжествующим видом отвечают они: Зеведей. Иоанн даже решился подойти к Иисусу и сказать: Оставайся с нами, наша лодка больше, чем у Симона с Андреем, и рыбы наловили бы больше, на что Иисус, исполненный и мудрости и жалости, отвечал:
Господь мерит иной, не человеческой мерой, но мерой своей справедливости. Иоанн отошел, понурившись, и во весь вечер никто более не пытался удерживать Иисуса. А наутро он простился со своими первыми за восемнадцать лет жизни друзьями и, снабженный едой на дорогу, пошел прочь от моря Генисаретского, где явил ему Бог знамение – если, конечно, он не обманулся, – и направил стопы свои в сторону гор, по дороге в Назарет. Судьбе, однако, было угодно, чтобы, проходя через город Магдалу, рассадил он ногу чуть не до кости, так что кровь никак не унималась. Ей же, судьбе то есть, вздумалось устроить так, чтобы произошло это на самой окраине городка, у самых дверей некоего дома, стоявшего поодаль от прочих, словно он не желал к ним приближаться или они хотели от него отдалиться. Иисус, видя, что кровь все течет, не останавливается, крикнул: Эй, есть здесь кто? – и тотчас за воротами появилась, точно только того и ждала, женщина, и по удивлению, легкой тенью мелькнувшему по ее лицу, можно было предположить, что привыкла она к тому, что в дом к ней заходят без оклика и стука, хотя это, если хорошенько вдуматься, в данном случае куда менее уместно, чем в любом другом и во всех прочих, ибо женщина эта была, по-тогдашнему выражаясь, блудницей и блюла законы своего ремесла, предписывавшие, впустив гостя, запереть за ним дверь. Иисус, сидя на земле и зажимая кровоточащую рану, лишь мельком взглянул на приближавшуюся женщину и сказал: Помоги, а? – и, ухватясь за протянутую ею руку, сумел все же подняться и доковылять до ворот. Ты идти не можешь, сказала женщина, войди в дом, надо перевязать. Иисус не ответил ни «да» ни «нет» – от этой женщины пахло так, что он потерял всякую способность к соображению и перестал даже ощущать боль, причиняемую разверстой раной, а когда, охватив женщину рукою за плечи, почувствовал, что поясница его обвита чьей-то еще, явно не его собственной рукой, целая буря сотрясла его тело во всех направлениях, хотя точнее, наверно, было бы сказать «чувствах», ибо именно в них или в одном из них, носящем то же название, но не относящемся к способности видеть, слышать, обонять, осязать, ощущать, а вобравшем в себя малую толику каждого, бьется и колотится все, и слава Богу. Женщина между тем ввела его во дворик, затворила калитку и со словами: Посиди, я сейчас, – усадила, а сама вошла в дом и тотчас появилась с глиняным кувшином и белой холстиной. Смочила ее водой, опустилась перед Иисусом на колени и, поддерживая ладонью больную ногу, осторожно обработала рану, смыв с нее землю, умягчив корку, сквозь которую сочилось вместе с кровью и что-то желтое, гнойное, мерзкого вида. Сказала она: Одной водой тут ничего не сделаешь, а Иисус сказал: Ты стяни ее потуже да завяжи, мне бы только до Назарета добраться… А там уж, – а там уж мать меня вылечит, собирался сказать он и не сказал, потому что не хотелось предстать в глазах этой женщины мальчуганом, который, ударившись, взвывает и взывает со слезами: Ма-а-ама! – ожидая, что его тотчас пожалеют и приласкают, подуют на больной пальчик, приговаривая: Не плачь, не плачь, мой маленький, до свадьбы заживет. До Назарета еще идти да идти, но воля твоя, дай только мазью помажу, сказала женщина и вновь ушла в дом и на этот раз задержалась там подольше. Иисус тем временем огляделся по сторонам, дивясь тому, как все в этом дворике прибрано и чисто. Он подозревает, что хозяйка его торгует своим телом, подозревает не потому, что наделен особой способностью с первого взгляда определять, каким ремеслом промышляет встретившийся ему человек, и ведь еще совсем недавно от него самого так несло козлом, что впору было бы причислить его к пастушьему племени, а теперь пахнет рыбой так, что всякий скажет про него: Ну ясно, рыбак, и одна вонь сменяется другой, не менее гадостной.
От женщины веет неведомыми ароматами, но Иисусу при всей его невинности, которую не следует путать с невежеством, ибо он много раз видел, как происходит случка, хватает здравого смысла понять: исходящее от тела женщины сладостное благоухание – недостаточный повод считать ее блудницей. Да и потом, блудница должна пахнуть тем, с кем имеет дело, – мужчиной, как пахнет козами козопас и рыбак – рыбой, но как знать, может, женщины этой профессии и душатся так сильно, чтобы отбить, заглушить или хотя бы ослабить запах мужчины. А она между тем вновь появилась из дверей, неся флакончик и улыбаясь так, словно в доме рассказали ей что-то забавное. Иисус видит: она все ближе, но – если зрение ему не изменяет – идет она страшно медленно, как бывает только во сне, и туника колышется, послушно вторя прихотливому качанию бедер, и черные ее, распущенные волосы танцуют по плечам, словно колосья на жнивье под ветром. Сомнений нет: даже слепец бы понял, что это наряд блудницы, что это тело плясуньи, что так умеет смеяться лишь женщина легкого поведения. В смятении Иисус попросил память свою прийти к нему на выручку с каким-нибудь подходящим изречением из премудростей его знаменитого тезки, Иисуса, сына Сирахова, и память не подвела, чуть слышно шепнула – только не на ухо, а изнутри уха: Не оставайся долго с певицею, чтобы не плениться тебе искусством, и еще: Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследства твоего, и если первое по молодости лет вполне могло случиться с Иисусом, то второе никак ему не грозило, ибо о достатках его мы с вами имеем представление, и он сам обрадовался тому, что неимущ, представив, как женщина перед тем, как договориться о цене, спросит: Сколько у тебя есть? И потому, готовый уже ко всему, он не был захвачен врасплох вопросом женщины, которая, поставив его ступню к себе на колено, умастила рану неким притиранием и спросила: Как тебя зовут? Иисус, ответил он, но не прибавил «из Назарета», ибо ранее уже сообщил, откуда родом и куда идет, как и женщина, отвечая на его вопрос, не прибавила к имени Мария слова «из Магдалы» – это и так было ясно. Вот сколько всего произошло за то краткое время, что Мария, умастив рану целебным составом, плотно, надежно и туго перевязывала ее чистой холстиной, проговорив под конец: Ну вот и все. Как мне тебя отблагодарить? – спросил Иисус, и тут впервые глаза его встретились с ее глазами, черными и блестящими как уголь, но при этом подернутыми переливающейся, будто вода по воде, сладострастной влагой, пронявшей юношу до самых глубин его естества. Женщина ответила не сразу, задержала на нем взгляд, словно оценивая, чего он стоит, хотя сразу было видно, что за душой у него ни гроша, и промолвила наконец: Запомни меня, вот и все. Век не забуду твоей доброты, отвечал он и, собравшись с духом, добавил: И тебя саму тоже не забуду.