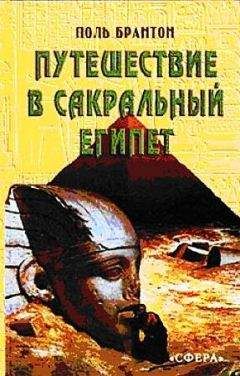* * *
Однажды я отправился в расположенную чуть дальше Карнака небольшую деревушку Нага-Тах-тани, где у меня была назначена встреча. Оставив позади Луксор и Карнак, я выехал на дорогу, вытянувшуюся вдоль берега Нила. Я ехал по ней довольно долго, пока, наконец, круто не свернул вправо, после чего проехал еще минут двадцать. Было около одиннадцати вечера.
В центре поселка было что-то вроде английской деревенской лужайки, только здесь это была всего лишь немощеная песчаная площадка. На ней расселись на корточках, прямо в пыли, более двух сотен мужчин. Ни одной женщины не было видно среди этого представительного собрания. Все были одеты в длинные арабские балахоны и белые тюрбаны и выглядели так, как и подобает выглядеть простым, малообразованным деревенским жителям.
На высокой, оштукатуренной и побеленной веранде сидели четверо нотаблей — четверо уважаемых мужчин, выделяющихся своей образованностью и общественным положением. По их лицам и свободно ниспадающим шелковым одеяниям, резко отличающим их от прочих собравшихся, можно было безошибочно заключить, что это — шейхи. Все четверо были седыми старцами. Похоже, что расхожий образ молодого и стройного шейха пустыни, похищающего английских девиц, существует только в дамских романах. Во всяком случае, здесь, в Египте, такие экземпляры точно не встречаются.
Единственным человеком во всем этом собрании, которого я знал, был шейх Абу-Шрамп. Он сердечно поприветствовал меня и представил старшине Карнака — другому шейху. Оба они при этом прикоснулись ладонями ко лбу, а затем к груди — жест изысканной вежливости. После этого я был представлен старшине деревни и прилегающей к ней округи.
Его звали шейхом Мекки Гахба. Это к его дому была пристроена веранда, на которой сидели нотабли. Он немедленно предложил мне традиционную чашку кофе, который мне, к счастью, удалось заменить чаем без молока.
Мне было предложено присесть на подушку рядом с моим другом — шейхом Абу-Шрампом, который жил в деревне Курна — на другом берегу Нила — и считался самым знаменитым и уважаемым святым во всей области Луксора на двадцать миль вокруг.
Он был ревностным почитателем Пророка (несмотря на слухи о том, что он вызывает джиннов и изготавливает могущественные талисманы) и очень гордился тем, что совершил в свое время паломничество в Мекку. Поэтому вокруг головы он обвязывал плоский зеленый тюрбан. Его густые усы, колоритные бакенбарды и короткая борода были совершенно седыми. Его смуглое лицо было добрым, но серьезным, приятным, но исполненным достоинства. У него были большие глаза, и в спокойной обстановке можно было разглядеть, какая необычайная глубина скрыта в них. Длинная и широкая коричневая рубаха из плотной ткани покрывала его тело до самых лодыжек. На безымянном пальце правой руки он носил невероятных размеров серебряное кольцо с арабской надписью.
На это собрание меня пригласил омдех (мэр) Луксора и даже настоял на том, чтобы меня сюда допустили. Мы познакомились на улице в знойный полдень, когда шейх Абу-Шрамп, который прибыл ко мне с обещанным визитом, чтобы выпить вместе со мною чашку чая, слезал со своего покрытого роскошной попоной осла. Мэр тогда поприветствовал меня в традиционной арабской манере:
— Да будет счастлив ваш день.
А через несколько дней мэр пригласил меня от своего имени и от имени шейха посетить ночное собрание дервишей карнак-луксорского округа.
Я был единственным европейцем в этой странной компании и потому по мере сил старался не думать о том, как экзотически смотрится на общем фоне моя европейская одежда.
Талисман шейха Абу-Шрампа
Мэр пояснил, что собраний, подобных намеченному, в округе не проводилось вот уже несколько лет. А шейх Абу-Шрамп добавил, что такие собрания дервишей всегда приурочены к определенной фазе Луны — для них необходима ночь новолуния или полнолуния, поскольку именно эти ночи считаются наиболее священными.
— Это будет вовсе не шумное и крикливое сборище, — заверил меня шейх, — мы все — довольно спокойные люди, собирающиеся вместе исключительно из любви к Аллаху.
Я огляделся по сторонам. В центре площадки был установлен высокий флагшток, на котором развевалось розовое знамя, вышитое золотой арабской вязью. Один за другим бедуины и жители деревни поднимались на ноги и подсаживались к флагштоку, образуя правильный круг. На близлежащем поле я заметил множество привязанных животных, на которых, как мне сказали, съехались сюда самые состоятельные участники собрания, чьи родные деревни отстоят отсюда иногда на целых двадцать миль. На собрании не разрешалось присутствовать никому, кроме приглашенных.
Вся сцена, развернувшаяся здесь, под звездным африканским небом, была просто великолепной. Более двух сотен увенчанных белыми тюрбанами голов, сформировавших на земле огромный круг, мерно покачивались вверх-вниз у моих ног. Некоторые из этих голов были уже давно убелены сединами, а некоторые принадлежали совсем еще мальчикам. Высокие пальмы, тяжелые листья которых шумели в потоке ночного бриза, роняя на собравшихся подвижные черные тени, обрамляли площадь с двух сторон. По двум другим сторонам ее стояло несколько прямоугольных строений. Вокруг кишели массы мелких тропических пресмыкающихся. А дальше был мрак ночи, поля, горы, Нил и пустыня. Помимо Луны и звезд, местность освещала единственная, довольно яркая лампа, подвешенная на веранде как раз над нашими головами.
С наступлением полночи один из дервишей поднялся и чистым мелодичным голосом запел стих из священного Корана. Едва он допел до конца последнюю строчку, как из двух сотен глоток вырвался протяжный рефрен: «Нет Бога, кроме Аллаха!».
Мальчик, которому на вид было лет шесть, не больше (хотя на Востоке этот возраст означает все же несколько большую зрелость, чем в Европе), вышел на середину круга, встал возле флагштока и высоким серебряным голоском пропел по памяти еще несколько стихов из Корана. Следующим поднялся бородатый старец: он не спеша обошел вокруг каждого ряда сидящих, неся в руках бронзовую чашу с горячими углями, со щедро посыпанными сверху благовониями. Вскоре аромат воскурений разнесся по всей площади и даже достиг нашей веранды.
После этого вокруг флага встали лицом друг к другу трое мужчин и затянули какой-то долгий религиозный гимн, тянувшийся минут пятнадцать-двадцать. Торжественность их голосов была лучшим свидетельством искренности их религиозного рвения. В изнеможении они упали на землю, и тогда четвертый мужчина вышел в центр круга и продолжил пение. Он пел любимую песню дервишей, и в его устах она звучала с какой-то меланхолической страстью.
Ее поэтический арабский текст был проникнут тем безграничным стремлением к Аллаху, которое должен переживать любой настоящий дервиш. И чем дальше он пел, тем сильнее эта песня походила на горестный вопль, исторгаемый из самых глубин его души; вопль, вызванный желанием осознанно ощутить присутствие Аллаха, своего Творца:
Я в этом мире одинок.
Найду ль Того, Кого ищу?
Увы! Ты от меня далёк,
Но я не плачу, не ропщу.
Вокруг меня — лишь ночи мрак.
Надежда тает, как свеча.
Взгляни, тоска в моих очах,
И сердце жжёт огнём печаль.
Как убежать мне от тревог?
Как в слове боль свою вмещу?
Увы! Ты от меня далёк,
Но я не плачу, не ропщу.
О Милосердный, посмотри!
Я — тот, кто просветленья ждёт.
Твой верный раб Ахмад Бакри
Тебя лишь Господом зовёт.
От слов, что передал Пророк,
Вовек свой лик не отвращу.
Увы! Ты от меня далёк,
Но я не плачу, не ропщу.
Когда он закончил петь и сел, я заметил, что большинство собравшихся зримо охвачены тем самым жгучим желанием, о котором была сложена эта песня, но сидевший рядом со мной шейх оставался столь же невозмутимым и бесстрастным, как и прежде.