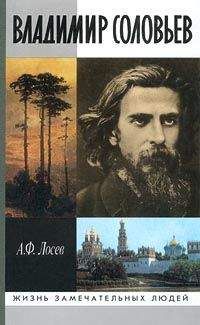Однако образ Софии, пленявший Вл. Соловьева в течение всей его жизни, почти, можно сказать, не имеет ничего общего с Софией, известной нам из гностических источников. Только слияние природы и личности, или материи и человечности, что вытекало из смешения в гностицизме античности с иудаизмом, было близко настроениям Вл. Соловьева. Все остальное из исторически известного нам гностицизма было ему совершенно чуждо. Исторически известный нам гностицизм был не только дуализмом, но и страстным, хотя, в конце концов, только кажущимся стремлением человека к спасению. Из огромного количества гностических текстов мы ради примера используем сейчас только Иринея Лионского (Сопіг. опт. һаег, I, 1—8), который, критикуя одного из вождей гностицизма, Валентина, излагает довольно подробно всю систему гностицизма и место Софии в этой системе. Системы гностицизма были весьма разнообразны, противоречивы и достаточно сумбурны. В настоящем месте нашей работы касаться их, конечно, не стоит, но сказать два слова о Валентине и валентинианах вполне необходимо, чтобы резко противопоставить соловьевскую Софию той, которая известна нам из истории гностицизма.
Уже то одно, что София у валентиниан занимает только тридцатое место в осуществлении божественной «полноты», или «Плеромы», а также и целый ряд романтических происшествий в связи с этой Софией свидетельствуют о чересчур человеческом ее понимании, вполне чуждом Вл. Соловьеву. Соловьевская София тоже вполне человечна, но она целомудренна и лишена всяких бытовых страстей и чувств и являет собою только путь сердечного восхождения человека к высоте духовного совершенства.
Итак, София — самый младший, тридцатый эон («эон» — это тот или иной тип «вечносущего») из числа тех, что составляют божественную «полноту», или Плерому. Со всей пылкостью юного существа София охвачена любовью и страстью, дерзостно стремясь постигнуть величие того, кто именуется первым эоном, или Отцом, и является вообще одним из Первоначал бытия, или Бездной. Однако от опасности, грозящей растворением во «всеобщей сущности» и «сладкой радости» Отца, удерживает Софию сила под названием «Предел», или «Крест». София вынуждена отбросить свою дерзостную мысль, питаемую страстью к познанию. Она вновь возвращается в состав «полноты», нарушенная гармония восстанавливается, но независимо от Плеромы все‑таки сохраняет свое существование жалкий, лишенный формы и образа «недоносок» — «мысль» Софии и порожденная ею страсть. Однако это аморфное, как бы случайно брошенное в пустоту и мрак существо возрождается к жизни благодаря милосердию Христа, рожденного Умом, то есть тоже одним из первых эонов Плеромы. Теперь эта «мысль» Софии под именем Ахамот получает от Христа новую жизнь, согласно ее сущности, осознает свой разум и образ, свойственный бессмертной мысли, уже вполне умственно мечтая соединиться с Христом. Вновь восстановленная «Пределом» Ахамот мучится от одиночества, переживает печаль и страхи. Но ее поддерживает новое состояние ее души, а именно обращение к Тому, Кто созидает жизнь. И эта ее обращенность к творческим принципам жизни дает начало материальному космосу, Душе Мира и Демиургу.
Наконец, сжалившийся Христос посылает к несчастной Ахамот Параклета–Утешителя, или, что то же, Иисуса, Спасителя. Именно с ним вступает в брак Ахамот, предварительно освободившись от страстей и получив возможность в радости созерцать божественный свет. От душевной сущности Ахамот произошел, как уже говорилось, Демиург, создавший все небесное и земное, то, что находится вне божественной «полноты». Из печали Ахамот возникли духи злобы и сам Космократор, дьявол. Таким образом, оказалось, что Ахамот («Мать», «София», «Св. Дух») заняла «наднебесное место» — «Середину», Демиург, ее сын, — «небесное место», а Космократор — земной мир, где он и царствует.
Однако наступят времена, когда София–Ахамот во всей полноте своей умной сущности войдет в Плерому, оставив наднебесное место своему сыну Демиургу. Но эта грядущая гармония таит в себе начало эсхатологической катастрофы, так как весь космос погибнет в огненной стихии, вырвавшейся из его собственных недр, и вновь воцарится небытие, как бы знаменуя тщетность усилий Софии–Ахамот, некогда возлюбившей Того, Кто созидает жизнь.
Вся эта характеристика валентинианства как одного из главнейших типов гностицизма дает очень много для понимания концепции Софии Вл. Соловьева, изображая, впрочем, не столько чем является София у него, сколько то, чем она у него не является. А это очень важно потому, что о связях Вл. Соловьева с теософско–гностической литературой не раз высказывались чересчур преувеличенные оценки. Некоторые черты гностической Софии уже были указаны у нас выше, но сейчас, после учета материалов Иринея Лионского, о гностической Софии можно сказать гораздо больше.
Ясно, во–первых, что гностическая София представляет собой слияние эллинских платонических концепций с библейскими. На рубеже двух эр возникла весьма внушительная эллинистически–иудейская культура, основанная на платоническом истолковании библейского вероучения. Крупнейшим представителем этой эллинистически–иудаистической философии, как известно, был Филон Александрийский (ок. 20 г. до н. э. — ок. 40 г. н. э.). От эллинистической философии, кульминировавшей в неоплатонизме, в гностицизм перешел дуализм, усиленный христианским учением о противоположности Творца и твари. От иудаизма же в гностицизм перешло интимно–личное отношение к божеству, усиленное христианской жаждой искупления и спасения. Кроме того, эллинская стихия в гностицизме привела к учению о множестве самых разнообразных мифологических фигур, куда был отнесен и Христос.
Однако гностицизм, не дошедший до монотеизма во всей его полноте, мыслил как всю свою мифологию, так и вообще все природно–личностные элементы в их полной дробности и даже в их полной раздробленности. Поэтому спасение мира и человека мыслилось не в их существе, но в их перераспределении ради преодоления их злой и хаотической раздробленности. И здесь нельзя не вспомнить платонического учения о природе, которую Демиург не то чтобы создавал в ее субстанции, но только приводил в порядок ее хаотически раздробленные части.
Самое же главное то, что София, эта мудрость Божия, наделялась у гностиков всякими чересчур человеческими страстями и эмоциями и чересчур человеческой драматически свершавшейся судьбой. А в конце концов торжествовало опять христианское учение о творении из ничего, потому что все эти мифологические образы и вся человеческая жизнь возвращались опять в Плерому, ничего не получивши от своей земной и драматической истории. Только в христианстве мир и человек спасаются в условиях получения огромного наследия от внебожественного существования, а в гностицизме после всего их драматического существования они превращались в пустую иллюзию и в простой мираж, обесценивавший всю внебожественную историю инобытия.
Что мог Вл. Соловьев взять из этой христианско–языческой мешанины? Ровно ничего. Но почему же тогда образ Софии пленял его в течение всей его сознательной жизни? Он пленял его вне всякого гностического мифологизма, а только как более человеческое понимание божественной непостижимости. Вл. Соловьев не выносил двух вещей. Он всегда с отвращением относился к бытовой, обывательской и плоской. религии, даже если речь шла и о православии, и о церковности. Но он не выносил также отвлеченного идеализма, хотя бы и богословского, и православно–догматиче‚ского. Ему было присуще материалистическое понимание божества, но только без пантеизма и с полным сохранением христианской монотеистической догматики. Это и заставляло его подчеркивать материальный характер того боговоплощения, о котором толковало христианство. Тут‑то и пригодился ему гностический термин «София», которым он пытался выразить свое интимно–сердечное отношение к высшему миру и которым он пользовался совершенно без всякой связи с исторически известными ему то языческими, то библейскими бесконечно спутанными мифологическими образами гностицизма, трактовавшимися в свое время на манер греческих романов. Чисто ноуменальное‚ всегда сердечное‚ но и всегда целомудренное понимание Софии — вот что в корне отличает Вл. Соловьева от всяких исторически нам известных форм гностицизма. Гностицизм, будучи переходом от язычества к христианству, настолько очеловечивает божественную Софию, что повествование о ней доходит до самой настоящей беллетристики с весьма заметными сексуальными элементами. Но для Вл. Соловьева София, оставаясь интимно–человечески переживаемым существом, полна целомудрия и романтического величия. А что касается приписываемых ему низких сторон Софии, то мы знаем, как сам Вл. Соловьев относился к этому — не только с осуждением, но даже с негодованием и гневом.