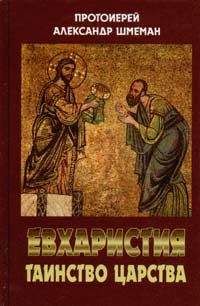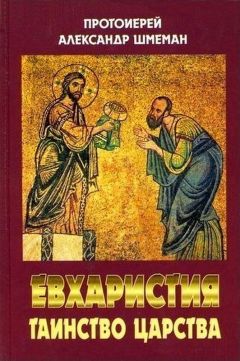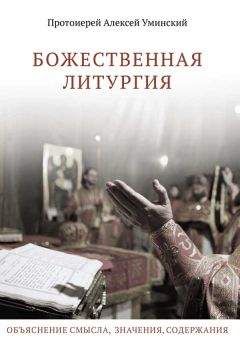IV
Нам нет нужды входить в подробное рассмотрение этой по своему стройной и последовательной системы. Сказанного достаточно, я думаю, чтобы почувствовать и осознать чуждость этого учения православному опыту таинств, несовместимость его с исконным литургическим преданием православной Церкви. Я говорю «чуждость опыту», а не учению, потому что то учение о таинствах и в первую очередь об Евхаристии, каким мы находим его в наших, но по западному образцу и в западных категориях построенных учебниках догматики, опыту этому не только не соответствует, но и открыто ему противоречит.
Но если говорить об опыте, изначала хранимом Церковью в своем «законе молитвы», то чуждость, глубочайшая чуждость этому опыту западной сакраментальной схоластики не может не стать очевидной. Главный же источник этой чуждости — это отрицание и отвержение латинским учением символизма, присущего христианскому восприятию мiра, человека и всего творения и составляющего онтологическую основу таинства. В этой перспективе латинское учение есть начало того распада и разложения символа, который, с одной стороны, будучи «сведен» к «символизму изобразительному», отрывается от реальности, а с другой — перестает восприниматься как основное откровение о мiре и творении. Когда Dom Vonier пишет, что «нет ни на небе, ни на земле ничего подобного таинствам», не означает ли это прежде всего, что, хотя в своем совершении они так или иначе зависят от «творения» и его «естества», — в самом этом естестве они ничего не раскрывают, ни о чем не свидетельствуют и ничего не являют… [14]
Православию это учение о таинстве чуждо, следовательно, потому, что в православном церковном опыте и предании таинство воспринимается прежде всего как откровение о подлинном естестве творения, о мiре, который, сколь бы ни был он падшим «мiром сим», остается мiром Божиим, чающим спасения, искупления, исцеления и преображения в новую землю и новое небо. Иными словами, Таинство, в православном опыте его, есть откровение, прежде всего, о таинственности самого творения, ибо мiр был создан и дан человеку для претворения тварной жизни в причастие жизни Божественной. И если вода может стать крещальной «баней пакибытия», если наша земная пища, хлеб и вино, может быть претворена в причастие Телу и Крови Христовых, если елеем даруется помазание Св. Духа, если, короче говоря, все в мiре может быть опознано, явлено и принято как дар Божий и причастие новой жизни, то это потому, что все творение изначала призвано и предназначено к исполнению Божьего домостроительства — «да будет Бог всяческая во всем».
Именно в этом — таинственном — восприятии мiра сущность и дар того светлого космизма, что пронизывает собою всю жизнь Церкви, все литургическое и духовное предание Православия. Ведь и сам грех воспринимается здесь как отпадение человека и в нем всего творения от этой таинственности — oт «paя бессмертия» — в «мiр сей», живущий уже не Богом, а собою и в себе, и потому — тленный и смертный. А если так, то и спасение мiра совершает Христос, восстанавливая мир и жизнь как Таинство [15].
Таинство это одновременно космично и эсхатологично, относится как к мiру Божьему в его первозданности, так и к исполнению его в Царстве Божьем. Оно космично потому, что обнимает все творение, приносится как Божье Богу — «Твоя от Твоих!.. о всех и за вся» — и в себе и собою являет победу Христову. Но в ту же меру, в какую оно космично, оно также и эсхатологично, направлено и обращено к Царству будущего века. Ибо, отвергнув и убив Христа, — своего Творца, Спасителя и Господа — «мiр сей» сам себя приговорил к смерти, ибо не имеет он «жизни в себе» и отверг ту, о которой сказано: «В Нем была жизнь и жизнь была свет человеков» (Ин. l:4). Kaк «мip ceй», он кончится, «небо и земля прейдут…». И потому верующий во Христа и принявший Его как «Путь, Истину и Жизнь» живет чаянием будущего века. Он уже не имеет здесь «пребывающего града, но грядущего взыскует» (Евр. 13:14). В том то, однако, и вся радость христианства, пасхальная сущность его веры, что этот «будущий век», будущий по отношению к «мiру сему» — и уже явлен, уже дарован, уже «посреди нас». И сама наша вера уже «есть осуществление (υπόστασις — реальность) ожидаемого», уже «есть уверенность» (έλεγκος — доказательство) — в невидимом» (Евр. 11:1). Она сама есть и являет и дарует то, на что она направлена: на присутствие посреди нас грядущего Царства Божия и его невечернего света.
А это, в свою очередь, означает, что в православном опыте и предании Таинством является, прежде всего, сама Церковь. Историки богословия неоднократно отмечали, что в раннем отеческом предании мы не находим определений Церкви. Но причина этому не в «неразвитости» тогдашнего богословия, как думают некоторые ученые богословы, а в том, что для раннего предания Церковь не объект «определений», а живой опыт новой жизни. Опыт, в котором институционная структура Церкви — иерархическая, каноническая, литургическая и т. д — таинственна, символична по самой своей сущности, ибо существует она для того, чтобы быть постоянно претворяемой в ту самую реальность, которую она являет, исполнением — невидимого в видимом, небесного в земном, духовного в материальном.
Церковь, таким образом, есть Таинство в обоих указанных выше измерениях: космическом и эсхатологическом. В космическом, потому что в «мiре сем» она являет подлинный, первозданный мiр Божий, как начало, в свете которого, по отношению к которому только и можем мы осознать всю высоту нашего горнего призвания, а потому и глубину нашего отпадения от Бога. В эсхатологическом потому, что первозданный мир, являемый Церковью, уже, спасен Христом — и в литургическом и молитвенном опыте не отрываем от того конца, ради которого он создан и спасен, и «дабы был Бог вся во всем» (1 Кор. 15:23).
Будучи таинством в глубочайшем и всеобъемлющем смысле этого слова, Церковь в таинствах и таинствами, и, прежде всего, конечно, «таинством всех таинств», святейшей Евхаристией, созидает, являет и исполняет себя. Ибо если, как только что сказано, есть Таинство начала и конца, мира и исполнения его как Царства Божия, — то совершается оно восхождением ее на небо, в «вожделенное отечество», в «status patriae» — к мессианской трапезе Христовой, во Царствии Его.
А это значит, что совершается все это: и «собрание в Церковь», и восхождение к престолу Божьему, и участие в трапезе Царства — в Духе и Духом Святым. «Ubi Ecclesia ibi Spiritus Sanctus et omnis gratia». «Где Церковь — там Дух Святой и полнота благодати». Этими словами св. Иринея Лионского (Adversus haereses) запечатлен опыт Церкви как Таинства Духа Святого. Ибо если там, где Церковь — там Дух Святой, то там, где Дух Святой — там обновление твари, там «иного жития, вечного начало», там заря таинственного, невечернего дня Царства Божия… Ибо Дух Святой и есть «Дух Истины, сыноположения дарование, обручение будущего наследия, начаток вечных благ, животворящая сила, источник освящения, от Него же вся тварь словесная же и умная укрепляема служит Богу и Ему присносущное воссылает славословие» (молитва Благодарения в литургии св. Василия Великого). Иными словами, там, где Дух Святой, там Царство Божие. Сошествием Своим в «последний и великий день Пятидесятницы» Дух Святой претворяет этот последний день в первый день нового творения и Церковь являет как дар и присутствие этого — и Первого и Восьмого Дня…
И потому все в Церкви — Духом Святым, все в Духе Святом и все причастие Святого Духа. Духом потому, что нисшествием Святого Духа явлена Церковь как претворение конца в начало, ветхой жизни в новую:
Все подает Дух Святой, Точит пророчествия, Священники совершает,
Весь собирает собор церковный…
Все в Церкви — в Духе Святом, который возводит нас в небесное святилище, к престолу Божьему:
Видехом свет истинный,
Прияхом Духа Небесного…
И, наконец, вся она обращена к Духу Святому — «сокровищу благих и жизни подателю», вся есть жажда стяжания Духа и причастия Его и в Нем, полноте благодати. Подобно тому, как подвиг и жизнь каждого верующего состоит, по словам преп. Серафима Саровского, в стяжании Святого Духа, так и жизнь Церкви есть то же стяжание, то же призывание, та же, вечно утоляемая и никогда до конца не утолимая, жажда Святого Духа:
Прииди к нам, Душе Святый,
Причастники Твоея соделывая святыни. И света невечернего,
И Божественныя жизни,
И благоуханейшего раздаяния…
Сказав все это, мы можем вернуться теперь к тому, с чего мы начали эту главу: к определению Евхаристии как Таинства Царства, как восхождения Церкви — к «трапезе Христовой, во Царствии Его». Мы знаем теперь, что определение это выпало из научно богословских объяснений Литургии, воспринятых православным богословием с Запада, и выпало, главным образом, по причине распада в христианском сознании ключевого понятия символа, противопоставления его понятию реальности и, потому, низведения его в категорию «символизма изобразительного». Поскольку же христианская вера с самого начала твердо исповедовала именно реальность преложения даров хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы: сие есть самое честное Тело, сия есть самая честная Кровь Христова — то всякое «смешение» этой реальности с «символизмом» стало восприниматься как угроза евхаристическому «реализму» и, это означает, реальному присутствию Тела и Крови Христовых на престоле. Отсюда — сведение таинства к «тайносовершительной формуле» — самой своей ограниченностью «гарантирующей» реальность преложения, во времени и пространстве, отсюда — из этого «испуга» — все более и более детальное определение «модуса» и «момента» преложения и его «действенности». Отсюда настойчивые напоминания, что до освящения даров на дискосе только хлеб, в чаше — только вино, тогда как после освящения — только Тело и Кровь, отсюда попытки объяснить «реальность» преложения при помощи аристотелевских категорий «сущности» и «акциденций», объяснить преложение как «пресуществление». Отсюда, наконец, отрицание за Божественной Литургией, как в «многочастности», так и в единстве её, реального отношения к преложению Св. Даров и фактически — исключение её из объяснения Таинства.