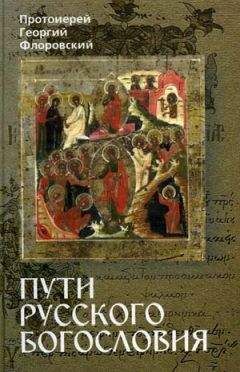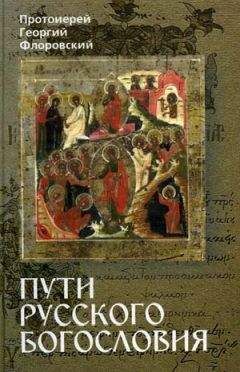«Се ныне оуже прииде отступление», скажет вскоре Иосиф Волоцкой…
Именно в таких перспективах апокалиптического беспокойства вырисовываются первые очертания известной «теории Третьего Рима». Это была именно эсхатологическая теория, и у самого старца Филофея она строго выдержана в эсхатологических тонах и категориях. «Яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти…»
Схема взята привычная из византийской апокалиптики: смена царств или, вернее, образ странствующего Царства, — Царство или Град в странствии и скитании, пока не придет час бежать в пустыню… В этой схеме два аспекта: минор и мажор, апокалиптика и хилиазм. [2] В русском восприятии первичным и основным был именно апокалиптический минор. Образ Третьего Рима обозначается на фоне надвигающегося конца — «посем чаем царства, емуже несть конца». И Филофей напоминает апостольское предостережение: «приидет же день Господень, яко тать в нощи…»
Чувствуется сокращение исторического времени, укороченность исторической перспективы. Если Москва есть Третий Рим, то и последний, — то есть: наступила последняя эпоха, последнее земное «царство», конец приближается. «Твое христианское царство инем не останется». С тем большим смирением и с «великим опасением» подобает блюсти и хранить чистоту веры и творить заповеди. В послании к великому князю Филофей именно предостерегает и даже грозит, но не славословит. Только уже вторично эта апокалиптическая схема была использована и перетолкована официальными книжниками в панегирическом смысле. И тогда превращается в своеобразную теорию официозного хилиазма. Если забыть о Втором Пришествии, тогда уже совсем иное означает утверждение, что все православные царства сошлись и совместились в Москве, так что Московский Царь есть последний и единственный, а потому всемирный Царь. Во всяком случае, даже и в первоначальной схеме Третий Рим заменяет, а не продолжает Второй. Задача не в том, чтобы продолжить и сохранить непрерывность Византийских традиций, но в том, чтобы заменить или как-то повторить Византию, — построить новый Рим взамен прежнего, павшего и падшего, на убылом месте. «Московские цари хотели быть наследниками византийских императоров, не выступая из Москвы и не вступая в Константинополь» (Каптерев)…
В объяснении падение Второго Рима говорится обычно о насилии агарян, — и «агарянский плен» воспринимается, как постоянная опасность для чистоты греческой веры, откуда и эта острая настороженность и недоверчивость в обращении с греками, живущими «во области безбожных турок поганского царя…»
Так происходит сужение православного кругозора. И уже недалеко и до полного перерыва самой греческой традиции, до забывания и о греческой старине, то есть об отеческом прошлом. Возникает опасность заслонить и подменить вселенское церковно-историческое предание преданием местным и национальным, — замкнуться в случайных пределах своей поместной национальной памяти. Влад. Соловьев удачно называл это «протестантизмом местного предания». Конечно, не все так рассуждали, и подобные выводы были сделаны не сразу, — скорее уже только позже, к середине ХVI-го века. Но очень показательно, что при этом ведь доходило до полного выключение и отрицание греческого посредства и в прошлом, — ведь именно в этом весь смысл сказание о проповеди апостола Андрея на Руси, как оно повторялось и применялось в ХVI-м веке…
Во всяком случае — постепенно и довольно быстро не только падает авторитет Византии, но и угасает сам интерес к Византии. Решающим было скорее всего именно националистическое самоутверждение. А в то же время развиваются и укрепляются связи с Западом. Для многих в конце XV-го века Запад представляется уже более реальным, чем разоренная и завоеванная Византия. Такое самочувствие довольно понятно и естественно у «реальных политиков», у людей политического действия; но вскоре им проникаются и другие общественные слои…
Часто кажется, что брак Ивана III с Софией Палеолог означал новый подъем Византийского влияние на Москве. А в действительности, напротив, это было началом русского западничества. Ведь это был «брак Царя в Ватикане». Конечно, Зоя или София была Византийской царевной. Но ведь воспитана она была в Унии, по началам Флорентийского собора, и опекуном ее был кардинал Виссарион. И брак был действительно венчан в Ватикане, а папский легат был послан сопровождать Софию в Москву. Легату пришлось сравнительно скоро уехать, но завязавшиеся связи с Римом и с Венецией не перервались. Этот брак привел скорее к сближению Московии с Итальянской современностью, нежели к оживлению Византийских преданий и воспоминаний. «Раздрал завесу между Европою и нами», говорит об Иване III уже Карамзин. «Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древнего величия, Италия дает первые плоды рождающихся в ней художеств. Народ еще коснеет в невежестве, в грубости; но Правительство уже действует по законам ума просвещенного…»
Иван III имел несомненный вкус и склонность к Италии. Отсюда он вызывает мастеров обстраивать и перестраивать Кремль, и дворец, и соборы. More Italico, отзывается Герберштейн об этих новых московских постройках. Достаточно известны имена Аристотеля Фиоравенти, Алевиза, Пьетро Солари. Всего меньше сказывается в это время влияние Византии…
Русские дипломаты в начале XVI-го века больше были заняты проектами о союзе с Солиманом, чем грезами об «отчине Константиновой» или крестовом походе на Цареград. Об этом напоминали скорее с Запада, где со всем вниманием учитывали силу Москвы в международном обороте…
Есть все основание считать Ивана III западником. Еще более Василия III, сына «чародеицы греческой» (так называет Софию Курбский), женатого во втором и спорном браке на Глинской, воспитанной уже вполне по западному. «А здесь у нас старые обычаи князь великий пременил», это относится не только к политическим или социальным переменам. «Ино земля наша замешалась…»
Интересно отметить, любимый лекарь Василия III, Николай Немчин, ведет беседы и даже переписку на темы о соединении церквей. По-видимому, у него было немало единомысленников на Москве («короткие связи» в высшем церковном обществе, как выражается Голубинский), — и Максиму Греку пришлось вступить с ним в полемику и спор. Любопытно, что Николай Немчин обращался, между прочим, к архиепископу Вассиану Ростовскому (родной брат Иосифа Волоцкого), как будто в расчете на сочувствие или хотя интерес. Кроме того, Немчин прилежал и звездозаконию…
Забелин не без основание говорил, что в действиях Ивана III многое заставляет вспоминать о Маккиавели. О Василии это можно повторить тем более. В его жестком и властном единодержавстве, на которое так роптали в боярских кругах, чувствуется скорее подражание современным итальянским князьям, нежели давним византийским василевсам.
5. Борьба с ересью «жидовствующих». Еще больший поворот к Западу
Уже в ХIV-м веке в Новгородских краях проявляется какое-то религиозное брожение, — эта «ересь стригольников» была, кажется, прежде всего противо-иерархическим движением. В конце XV-го века встречаемся с другим и более сложным движением. Это — ересь жидовствующих. В Новгороде она захватывает верхи клира, перекидывается на Москву, и здесь «прозябает» под благоволительным покрытием Державного. Об этом движении мы знаем недостаточно, и больше всего от свидетелей не очень достоверных, от пристрастных противников и врагов, от Геннадия Новгородского и особенно от Иосифа Волоцкого. И к тому же, «Просветитель» Иосифа Волоцкого, наш главный источник, издан был в поздней редакции (хотя и по очень надежному списку, рукопись принадлежала Нилу Полеву), и многих важных известий не находим в редакции первоначальной, сохраненной в Макариевских Минеях. И вообще в описаниях полемистов нелегко различить, что было главным и что второстепенным, или даже только случайным.
Гораздо надежнее и показательнее книги, вышедшие или обращавшиеся в жидовствующих кругах. Это были отчасти библейские переводы с еврейского, отчасти астрологические книги, еще переводы из Маймонода и Ал-Газали. По языку эти переводы «литовского», т. е. западного или южно-русского происхождения. Именно из Киева и прибыл в Новгород тот Схария жидовин, от которого пошла смута. Остается неясным, из какой среды вышел этот Схария, — исследователи догадывались и о Крымских караимах и о Константинопольских связях. Во всяком случае, он был представителем еврейской учености. Библейские переводы «жидовствующих» были всего скорее сделаны в еврейской среде и для синагогального употребление (срв. в книге Даниила разделение текста на гофтары или параши, по дням недели)…
«Ересь жидовствующих» была прежде всего брожением умов. «Явися шатание в людех и в неудобнех словесех о Божестве», читаем в Никоновской летописи. «Ныне и в домех, и на путех, и на торжищех, иноци и мирстии вси сонмятся, вси о вере пытают», писал преподобный Иосиф. По первым сообщениям Геннадия Новгородского о ереси можем заключить, что брожение и сомнение началось именно с чтения книг. Геннадий ищет книг, которые есть у еретиков: «Селиверст, папа Римский» (т. е. «Вено Константиново»), Афанасий Александрийский, Слово Козьмы на богомилов, Дионисий Ареопагит, Логика, Пророчества, Бытие, Царства, Притчи, Менандр… Довольно пестрый и бессвязный список, в котором, впрочем, ясно выделяются библейские книги… Может быть, «сомнение» началось именно с толкование текстов, — «псалмы Давыдова или пророчества испревращали», пишет Геннадий. Именно поэтому преподобный Иосиф в своем «Просветителе» почти что и не выходит за пределы разъяснение спорных текстов. Жидовствующие, по-видимому, затруднялись признавать прοобразовательный смысл в свидетельствах Ветхого Завета. Стало быть, пророчества еще не сбылись, еще подлежат исполнению… Затем, Новгородские еретики не находили в Ветхом Завете свидетельства о Пресвятой Троице,— снова экзегетическая тема, истолкование Ветхозаветных теофаний. Возможно, что все эти экзегетические трудности были указаны со стороны, именно с еврейской стороны. И следует вспомнить, что ведь именно в это самое время в Новгороде на владычнем дворе шла работа над библейским сводом…