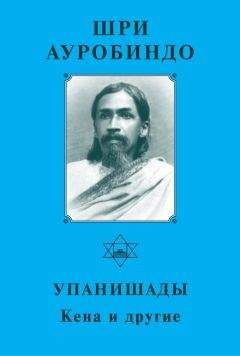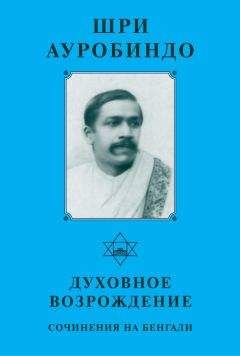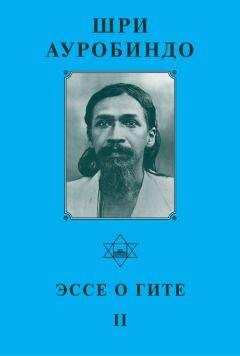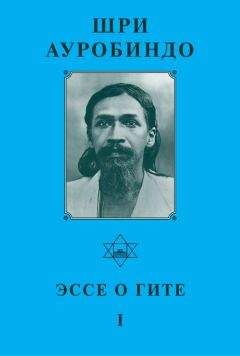Великая Араньяка
Комментарий к Брихадараньяка Упанишаде
Предисловие
Брихадараньяка Упанишада, и самая туманная, и самая глубокая из Упанишад, представляет особую трудность для восприятия современного ума. Если от нас далеки ее идеи, то еще более далек язык. Язык глубокий, изысканный, чрезвычайно богатый необычными философскими намеками и утонченно психологичный, он предназначен для предпочтительного сокрытия идеи за высокой образностью и символичностью, что для современников, привыкших к этой многозначной речи, должно было выглядеть как благородное обрамление богатого содержания, однако для нас скорее играет роль плотной завесы. Раздвинуть эту завесу, перевести древний ведический язык и систему образов в ту форму, в которую предпочитает облекать свои идеи современная мысль, – вот единственная цель этого комментария. Задача по необходимости связана с известным риском. Просто воспроизвести на современном языке мысли и толкования Шанкары было бы легко; если у него есть ошибки, то вместе со столь высоким авторитетом можно и себе позволить ошибаться. Однако мне кажется, что и интересы истины, и духовные потребности человечества в наше время требуют скорее восстановления древней ведантистской истины, нежели прежнего доминирования лишь той ее стороны, которую систематизировал средневековый мыслитель. Великий Шанкарачарья не нуждается в похвале наших современников, и ему не может повредить их несогласие с ним. Тот, кого смело можно назвать первым мыслителем-метафизиком, величайший из гениев в истории философии, сослужил также неоценимую службу современному человечеству тем, что своим комментарием перебросил мост через интеллектуальную пропасть, разделившую мудрецов Упанишад и нас. Комментарий спас их от практического забвения, в котором наше невежество и инертность столько веков позволяли оставаться Веде – ради того только, чтобы ее вытащили на свет грубые руки отважно теоретизирующего тевтона. Комментарий Шанкары сберег эти древние сокровища мысли, эти возвышенные кладези духовности в надежном укрытии храма метафизики, философии Адвайты – пусть и отодвинутыми на второй план, излишне завуалированными и замаскированными, но тем не менее надежно укрытыми от иконоборчества и неуемных измышлений современной науки. Вместе с тем, справедливо и то, что комментарий Шанкары интересен не столько светом, который проливает на Упанишады, сколько отходом от них в его собственную философию. Не думаю, что рациональный интеллект Шанкары, отточенный до предела, но жаждущий логической ясности и последовательности, мог достаточно глубоко проникнуть в этот мистический символизм, в эту глубинную и трудноуловимую гибкость, которая вообще характерна для Упанишад, а в Брихадараньяке достигает почти недосягаемой высоты. Шанкара многое сделал, он часто выказывает готовность к пониманию и проницательность, поразительные для столь отличного типа интеллектуальности, однако есть необходимость и возможность сделать большее. Стремительно приближается то время, когда человеческий интеллект, начав осознавать могучую сложность вселенной, станет с большей готовностью познавать и будет менее склонен к диспутам и диктату; тогда мы будем обращаться к древним памятникам знания ради извлечения из них того, что в них содержится, а не ради того, чтобы навязать им нашу собственную правду или заставить их служить нашим философским или схоластическим целям. Пассивно войти в течение мыслей древних риши, позволить их словам проникнуть в наши души, воздействовать на них и рождать собственные отзвуки в отзывчивом и податливом материале – короче говоря, отдаться на волю Шрути – такой была теория самих древних в отношении метода ведического знания: girām upaśrutiṁ cara, stomān abhi svara, abhi gṛṇīhi, ā ruva – прислушиваться душой к древним голосам и позволять Шрути откликаться в душе, вибрировать, сначала невнятно, в ответ на ведантистский гимн знания, откликаться, звучать эхом и в конце концов дать этому отклику обрести ясность, интенсивность и полноту. Вот принцип интерпретации, которому я следовал, принцип, возможно, мистический, но необязательно менее здравый, чем упорство и столь же субъективные стандарты логика и ученого. А что до остального, то там, где внутренний опыт истины не проливает света на текст, надлежит послушно следовать словам Упанишад и доверяться своей интуиции. Ибо я считаю правильным прислушиваться к интуиции, особенно в толковании Упанишад, даже рискуя быть обвиненным в привнесении мистики в Веданту, поскольку мне кажется, что ранние ведантисты были мистиками – не визионерами с мыслями туманными и расплывчатыми, но мистиками – интуитивными символистами, людьми, рассматривавшими мир как движение сознания, а все материальные формы и энергии как наружные символы и тени все более глубинных внутренних реальностей. В мои намерения не входит, да и возможности мои не позволяют, развивать философию Великой Араньяка Упанишады, мне нужно развить ее лишь настолько, чтобы добиться достаточной ясности идей, содержащихся в ее языке и заключенных в ее образах. Задача моего комментария – заложить основу, возводить же надстройку есть дело мыслителя.
Конь Миров
Упанишада начинается с грандиозной внезапностью образом порывистого Коня Ашвамедхи.
«ОМ, – начинается она, – Заря – это голова жертвенного Коня. Солнце – его око, его дыхание – ветер, его широко отверстая пасть – Огонь, вселенская энергия. Время – дух жертвенного Коня. Небеса – его спина, а срединное пространство – брюхо его, земля же – его подножие; стороны света – его бока, а промежуточные стороны света – ребра, времена года – ноги его, месяцы и половины месяцев[101] – опора его ног, созвездия – его кости, а небосвод – плоть его тела. Песчаные берега – это пища в его брюхе, реки – его вены, горы – его печень и легкие, травы и деревья – волосяной покров на его теле, день занимающийся – это передняя часть его тела, а день угасающий – его задняя часть; когда он потягивается, сверкает молния, а когда встряхивается – гремит гром, когда же он мочится – идет дождь. Речь, воистину, это его ржание. День был величием, рожденным впереди Коня, когда тот мчался вскачь, – восточный океан породил его. Ночь была величием, рожденным позади Коня, и она родилась в западных водах. Таковы были два великих дива, возникшие по обе стороны Коня. Он стал Хайей и понес на себе богов, Ваджином – и понес гандхарвов, Арваном – и понес титанов, Ашвой – и помчал на себе человечество. Море было братом его, и море – местом его рождения».
Это описание, полное гигантских образов, задает тон Упанишаде, и только войдя в смысл его символики, мы сможем получить доступ ко вратам города прекрасных дворцов, города ведантистской мысли. В языке Упанишад никогда не встречается ничего чисто поэтического или орнаментального. Даже в этом отрывке, который может на первый взгляд показаться исполненным чистейшей образностью, в образах прослеживается избирательность, упорядоченное видение и целенаправленность. Все они не плод необузданной фантазии автора – они построены на распространенных идеях ранней ведантистской теософии. К счастью, также из этого начального отрывка становится совершенно ясно, как относится автор Упанишады к ведическим жертвоприношениям. Нам не придется опасаться обвинений в том, что мы навязываем примитивному мышлению древних современную изощренность мысли или подменяем варварские суеверия цивилизованной мистикой. Ашвамедха, или Жертвоприношение Коня, как мы увидим, используется в качестве символа великого духовного продвижения, можно даже сказать, эволюционного восхождения из-под власти внешне материальных сил к более высокой духовной свободе. Для автора Конь Ашвамедха есть физическая фигура, представляющая, на манер алгебраического символа, неизвестное количество силы и скорости. По образам очевидно, что эта сила, эта скорость есть нечто всемирное, нечто универсальное, она заполняет своим существом стороны света, вмещает в себя Время, мчится сквозь Пространство, несет в своем стремительном движении людей, богов и титанов. Это Конь Миров – и в то же время Конь жертвенный.
Давайте сначала рассмотрим само слово aśva и подумаем, проливает ли оно некий свет на тайну этого образа. Ибо нам известно, что ранние ведантисты придавали большое значение словам, как в их явном, так и в сокровенном смысле, и если не следовать за ними по этому пути, нельзя даже питать надежду разобраться в тех ассоциациях, которыми полнились их умы. Однако даже самому поверхностному психологу очевидно значение ассоциаций в окрашивании, а часто и в определении наших мыслей, в определении даже мысли философской и научной, более всего старающейся сохранить свою точность и свободу. Метод, примененный Свами Даянандой для прочтения Вед, – хотя, пожалуй, применялся он с излишней настойчивостью, диктуемой чаще могучим умом современного индийского мыслителя, нежели вновь возрожденной ментальностью древних арийских риши, – был бы в принципе одобрен этими ведантистами. Слово aśva первоначально должно было передавать значение скорости или силы, или того и другого вместе, прежде чем стало означать лошадь, коня. В своем первичном или корневом смысле оно означает «существовать всепроникающим образом», а следовательно, «владеть, иметь, получать, наслаждаться». Это греческое слово ekho̅ (древнее санскритское aśā), обычное в греческом слово, которое значит «я имею». Другое его значение, еще более распространенное – «есть, поедать» или «наслаждаться». Помимо этого первоначального смысла, присущего корням семьи, есть и особое значение, передаваемое только этим словом: «существование в силе» – со смыслом «сила, крепость, острота, скорость» – в aśan и aśma, камень, aśani, удар грома, aśri, острый край или угол (латинское acer, acris, острый, acus, точка и т. д. ) и, наконец, aśva – сильный, быстрый конь. Таким образом, основные значения – это «всепроникающее существование, наслаждение, сила, крепость, скорость». Не можем ли мы, в таком случае, сказать, что для риши aśva значило – неизвестная энергия, обладающая силой, крепостью, плотностью, стремительностью и наслаждением, которая наполняет и образует собой весь материальный мир?