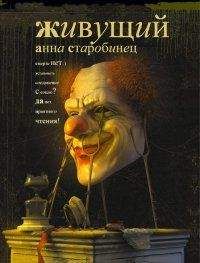Мы уже упоминали об уникальности, отдельности еврейского бога, важности того, что он не был богом «территориальным», географическим. Но не менее важно было то, что иудеи узнали от своих новых повелителей. Оказалось, что Вавилону (и другим городам Месопотамии) уже много сотен и тысяч лет, что они неоднократно разрушались различными завоевателями — столь же жестоко, как нынешний Иерусалим — и что рано или поздно бывали восстановлены. Выяснилось, что аккадская теология очень доказательно объясняет подобные события гневом или недовольством богов: самые страшные страдания выпадали на долю Вавилона тогда, когда от него отворачивался Мардук. И, самое интересное, Бог может свою милость и вернуть — нужно лишь совершить соответствующие приношения. Инструментом подобной жертвы из-за отсутствия Храма и возможности исполнения надлежащих обрядов стало Священное Писание. Именно в тот период оно начало олицетворять религию и, более того, национальную самобытность. Впервые в человеческой истории книга становилась Храмом. Так иудеи превратились не просто в народ с отдельной письменной или цивилизационной традицией, но в Народ Книги.
Древняя, находившаяся уже на излете культура Междуречья поделилась с изгнанниками своим тысячелетним багажом и открыла молодой нации возможность культурного спасения. Нация становится нацией в момент оформления самостоятельной письменной культуры[432], а письменность влечет за собой все остальное. Именно переход от бесписьменного мира к письменному закрепляет национальную традицию, придает ей устойчивость перед лицом самых тяжелых катастроф, открывает возможность бесперебойного общения с прошлым и тем самым создает непрерывность культурного времени. Склоним же голову перед теми немногими иудейскими изгнанниками, которые поняли силу подобных идей и смогли ими воспользоваться. Мы им очень многим обязаны.
К тому моменту, когда эти культурно-религиозные тенденции окрепли и развились в среде вавилонских изгнанников, жизненный путь Иеремии уже закончился. Согласно традиции, незадолго до падения города (а может, после), он демонстративно заключил купчую на покупку поля. Убежденный одиночка, не имевший ни дома, ни семьи, сделал это в знак того, что «домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей»[433]. Еще одна демонстрация, вполне в его духе, и очень логичная: ведь Иудея погибла, теперь проповедовать грядущие ужасы бессмысленно, а нужно заботиться о спасении, о выживании. В этом действии Иеремии — ответ тем, кто называл его ненавистником собственного народа. Он уже видел следующую цель своей деятельности, пусть ему и не будет суждено узреть ее исполнение. Эту перемену настроений пророка много тысяч лет спустя тонко прочувствовал великий поэт, так завершивший его скорбный монолог:
Я теперь хочу среди развалин,
наконец-то свой услышать голос,
голос мой, что прежде воем выл[434].
Возможно, что к этому времени относятся так называмые утешения Иеремии[435], обещающие грядущее возобновление Завета с Господом и возвращение Израиля из плена: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его»[436]. И возникает в проповеди Иеремии удивительное словосочетание, более нигде в Ветхом Завете не присутствующее, — «новый завет», новый договор, который Господь заключит «с домом Израиля и домом Иуды»[437]. Судьба этих слов, как известно, невероятна и превосходит воображение человеческое.
И затем пророк никуда не уходит, освобожденный вавилонянами[438], а остается в иудейской общине, отданной империей под управление одному из лоялистов, возможно, даже произведенному в цари. Это продолжается недолго, ибо несколько уцелевших патриотов устраивают короткий мятеж, убивают наместника и скрываются. Оставшиеся в живых члены общины в страхе перед вавилонским гневом бегут в Египет. Проклинающего их и протестующего против переселения Иеремию берут с собой против его воли. Отсутствующая в Библии еврейская легендарная традиция сообщает о том, что пророк был убит соплеменниками в Египте, когда пытался отвратить их от поклонения тамошним богам{121}. Так Иеремия превратился в миф, к тому же яркий и цельный и оттого почти сразу же привлекший внимание тех вавилонских изгнанников, которые были заняты выстраиванием новой иудейской религиозной и политической доктрины.
Курс царской династии, большей части знати и высшего жречества оказался полностью посрамлен, и его ревизия не могла выступать в качестве завлекательной духовной идеи. Воля Божья также не подлежала сомнению — Иерусалим должен был быть уничтожен. А кто являлся главным и самым непримиримым оппонентом указанного политического курса? И кто, добавим, сулил всяческие несчастья следовавшей ему греховной Иудее?
Поэтому абсолютно логично, что главной идейной фигурой самого плачевного эпизода древнееврейской истории стал несгибаемый диссидент, вечный негативист, предсказания которого, наверное, исполнялись отнюдь не всегда и чья установка на всеобщее отрицание была, скорее всего, поводом для ежедневных насмешек почти тех же людей, которые чуть позже вознесли его на пьедестал. В дальнейшем таковой оказалась судьба и других пророков. Но и тут Иеремия оказался первым.
Великий провозвестник горестей, вечно гонимый печальник стал символом — памятником самому себе. Вслед за ним было постепенно канонизированно и все пророческое движение, несмотря на значительную противоречивость соответствующих текстов и заключавшихся в них идей. Иудейские изгнанники нашли себе новых героев и сумели адаптировать к ним религию своих предков. В начале процесса религиозно-философского обновления важно найти в прошлом объект почитания, чтобы было к кому возводить духовную родословную (реформа всегда хочет притвориться традицией — революционные идеи не могут быть новыми, только переоткрытыми). Это нужно не для того, чтобы поставить этого человека рядом с Богом, не для того, чтобы подменить им Бога, а просто чтобы духовный переворот символизировал кто-то, по-человечески близкий обычным, не вникающим в религиозные тонкости людям[439]. Идеологи всех времен нуждаются в положительных образах отцов-основоположников, потому что людям всегда нужно поклоняться кому-то понятному (помимо поклонения непознаваемому, которое важно ничуть не меньше). Совместное поклонение объединяет и приносит душевный комфорт. Как известно, сплоченные группы верующих граждан обычно переворачивают историю человечества — и социальную, и духовную, и материальную.
Ближайшее поколение учеников Иеремии относилось к учителю с большим пиететом. Этим людям мы обязаны сохранением его письменного и духовного наследия[440]. Скорее всего, именно в их среде и родился упоминавшийся выше Плач Иеремии. Его обычно не считают принадлежащим перу пророка: во-первых, несколько раз реалии той эпохи упомянуты в нем не под тем углом, который должен бы быть свойствен «каноническому» Иеремии[441], во-вторых, язык Плача заметно отличается от девторономической лексики Книги Царств и Книги Иеремии, а в-третьих, жесткая структуризованность Плача, казалось бы, противоречит образу подвластного неожиданным порывам, ни с кем и ни с чем не считающегося пророка, который доносит до нас Книга Иеремии.
С нашей точки зрения, внимание стоит обращать только на последний аргумент, ибо и политические воззрения пророка и его литературный стиль[442], были значительно скорректированы будущими поколениями редакторов Ветхого Завета. Да и не кажется столь невероятной возможность сочинения пророком какого-то выверенного текста: ведь не так уж много мы знаем о его мыслях после падения Вавилона, да и времени до новых пертурбаций на иудейской земле могло пройти вполне достаточно для создания такого труда[443].
Гибель Иерусалима произвела великий религиозно-философский переворот в иудейской нации, растянувшийся на десятилетия и века. Почему она не могла столь же сильно подействовать на отдельного человека, тем более такого, как Иеремия? Почему же он не мог бы посвятить разрушению своей страны текста, совершенно не похожего на созданное им до того? Не слишком ли часто компетентные ученые увлекаются филологическим и историческим анализом, забывая о том, что причуды человеческого гения анализу часто не поддаются и, более того, его опровергают? В крайнем случае, можно предположить, что Плач принадлежит кому-то из ближайших учеников Иеремии, поэтому этот текст быстро попал в корпус «иеремических» тестов и был очень быстро канонизирован — вместе с самим пророком.
Место создания Плача тоже может свидетельствовать о многом. Считается установленным, что некоторые присутствующие в нем мотивы восходят к наидревнейшим месопотамским «плачам о разрушенных городах» (о наиболее известном из них, посвященном гибели Ура, мы упоминали в одной из предыдущих глав). Очевидно, что напрямую шумерские тексты III тыс. до н.э. не могли повлиять на иудейского автора VI в. до н.э. Значит, делают вывод ученые, проводниками этого влияния были поздневавилонские тексты, с которыми автор Плача мог познакомиться в изгнании. Однако в тексте Плача ничто не указывает на возможность того, что он был создан вне Иудеи и не сразу после разрушения Иерусалима, поэтому нельзя исключить, что влияние месопотамской мысли и литературы на еврейскую было намного обширнее и древнее, чем это кажется теперь[444]. Сознавал ли автор Плача, находившийся в Иудее или в Вавилоне, что в сочинении, посвященном гибели Иерусалима, он, будь то Иеремия или кто-то из его идейных последователей — вольно или невольно — следует месопотамским образцам: литературе своих врагов?