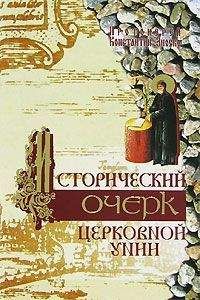1. Церковь и общество
Великая мечта византийской цивилизации рисовала универсальное — охватывающее весь мир — христианское общество, административно управляемое императором и духовно руководимое Церковью. Эта идея очевидно сочетала римский и христианский универсализмы в единой социально–политической программе. Она, к тому же, опиралась на богословские предпосылки относительно человека, о которых шла речь выше [540]: человек, по природе, является теоцентричным к Богу во всех аспектах своей жизни и отвечает за участь всего творения. Как долго христианство было преследовано, так долго библейское утверждение могло быть только артиклем веры, быть осуществленным в конце истории и предвосхищенным в таинствах. С «обращением» Константина, однако, эта идея стала выглядеть конкретной и достижимой целью. Тот первоначальный восторг, с которым христианская Церковь отдалась под покровительство имперских властей, так и не был никогда поддержан систематическими размышлениями о природе и роли государства или мирских обществ в жизни падшего человечества. В этом заключается трагедия византийского строя: византийцы решили, что государство как таковое способно стать христианским по своей внутренней природе.
Официальная версия этого византийского идеала общественного устройства сформулирована в знаменитой Новелле 6 Юстиниана:
Есть два величайших дара, которые Бог, в любви Своей к человеку, ниспослал свыше: священство и величественное достоинство. Первое служит Божественному, второе направляет и улаживает человеческие дела; и то и другое, между тем, происходят из одного и того же источника и украшают жизнь человечества. Поэтому ничто не может быть таким источником забот для императоров, как достоинство священников, ибо о благополучии [империи] непрестанно молят они Бога. Ведь если священство во всех отношениях свободно от порока и обладает доступом к Богу и если императоры распоряжаются беспристрастно и справедливо государством, вверенным их попечению, то возникнет тогда всеобщее умиротворение, и все, что благодетельно, будет даровано роду человеческому [541].
По мысли Юстиниана «симфония» [542] между «божественным» и «человеческими делами» опирается на Воплощение, соединившее Божественную и человеческую природы, так что Личность Христова есть единственный в своем роде источник обеих — гражданской и церковной — иерархий. Фундаментальной ошибкой в таком подходе было допущение, что та идеальная человечность, которая явила себя через Воплощение в Личности Иисуса Христа, способна обрести адекватное проявление и в Римской империи. Византийское теократическое мышление опиралось, по сути дела, на своего рода «осуществленную эсхатологию», словно бы Царство Божие уже явилось «в силе» и будто бы империя и есть проявление этой силы в мире и в истории. Византийская христианская мысль, разумеется, признавала реальность зла и в отдельной личности, и в обществе, но предполагала, по крайней мере в официальной идеологии имперского законодательства, что подобное зло можно адекватно контролировать, если только подчинить всю «обитаемую землю» [543] власти одного императора и духовному авторитету православного священства.
Промыслительное значение единой мировой империи превозносилось не только в имперских законах, но и в церковной гимнографии. Рождественский гимн, приписываемый жившей в IX столетии монахине Кассии, провозглашал прямую связь между мировой империей Рима и восстановлением человечества во Христе. Pax Romana таким образом совпадает с Pax Christiana [544]:
Августу единоначальствующу на земли, многоначалие человеков преста: и Тебе вочеловечшуся от Чистыя, много–Божия идолов упразднися, под единем царством мирским гради быша, и во едино владычество Божества языцы вероваша. Написашася людие повелением кесаревым, написахомся вернии именем Божества, Тебе вочеловечшагося Бога нашего. Велия Твоя милость, Господи, слава Тебе [545].
Уже в 1397 г., когда стало почти очевидным падение строя, византиец все равно по–прежнему считал, что христианскому универсализму не обойтись без такой опоры, как всемирная империя. В ответ на запрос князя Московского Василия, интересовавшегося, нельзя ли русским опустить из литургического поминовения имя императора, продолжая в то же время поминать Патриарха, патриарх Антоний IV отвечал: «Невозможно христианам иметь Церковь и не иметь империи; ибо Церковь и империя образуют великое единство и сообщество; никак им невозможно обособиться друг от друга» [546].
Идея христианской и всемирной империи предполагала за императором определенные обязанности и как стража веры, и как свидетеля милости Божией к человеку. Согласно Epanagoge, своду законов IX в., «цель императора — творить добро, и поэтому он именуется благодетелем, а когда он терпит неудачу в этом долге творения добра, он утрачивает свое царственное достоинство» [547]. Такой порядок был подлинной попыткой видеть человеческую жизнь во Христе целостностью: не обращалось внимания на какие–либо дихотомии, противопоставляющие, например, духовное и материальное, священное и мирское, личное и общественное, догматическое и нравственное, но признавалась определенная поляризация между «божественными вещами» — по су ществу сакраментальное человека с Богом общение в церковных таинствах — и «делами человеческими». Но и между двух следует наличествовать «симфонии» в рамках единого христианского «общества», в котором Церковь и государство сотрудничают в сохранении веры и в созидании общества, основанного на милосердии, благотворительности и человеколюбии [548].
Эта цельность византийского представления о христианской миссии в этом мире отразилась в основополагающем халкидонском веровании в полном приятии человечности Сына Божиего в Воплощении. Христианская вера вела к преображению и «обожению» всего человека; и, как мы видели, это «обожение» вполне доступно как живой опыт, даже теперь, а не только в будущем Царстве. Византийская экклезиология и византийская политическая философия равно полагали, что Крещение наделяет человека подобным опытом и преобразует не одну «душу», но полностью человека, превращая его, уже в этой нынешней жизни, в жителя Царства Божия.
Нетрудно заметить, что главной чертой, отличающей восточное христианство в его подходах к социальной и этической проблематике, была склонность считать человека уже искупленным и прославленным во Христе. Западный же христианский мир традиционно понимал нынешнее состояние человечества и реалистичнее, и пессимистичнее: пусть в очах Бога человек и был искуплен и «оправдан» жертвоприношением на Кресте, все же человек остается грешником. Первейшей обязанностью Церкви поэтому становится обеспечение человека критериями мышления и дисциплиной поведения, которые могут помочь ему преодолеть свое грешное состояние и направить его на добрые дела. Если исходить из такого допущения, то Церковь понимается прежде всего как учреждение, созданное в этом мире, служащее этому миру и свободно пользующееся средствами, доступными в этом мире и необходимыми для обращения с грешным человечеством, и особенно концепциями права, авторитета и административной власти. Контраст между структурами, сооруженными средневековым папством и эсхатологической, опытной и «иномирной» концепциями, преобладавшими в экклезиологическом мышлении Византийского Востока, помогает нам понять исторические судьбы Востока и Запада. На Западе Церковь развилась в могущественную институцию; на Востоке она виделась преимущественно сакраментальным (или «мистическим») организмом, отвечающим за «божественное» и наделенным лишь ограниченными институциональными структурами. Структуры (патриархии, митрополии и прочие официальные институции) формировались самой империей (за исключением фундаментальной трехчастной иерархии — епископ, священник, диакон — в каждой Поместной Церкви) и не считались происходящими из Божественного источника.
Такая частичная уступка «институциональной» стороны христиантва империи, послужила сохранению сакраментального и эсхатологическoro понимания Церкви, но ему сопутствовали и серьезные опасности. В последующие исторические эпохи Восточная Церковь не раз на опыте узнавала, что далеко не всегда государство заслуживает доверия, а часто оно вообще принимало явно бесовскую личину.
На протяжении же собственно византийского периода, однако, «симфония» Юстиниана показала себя в деле намного лучше, чем можно было бы ожидать. Мистический и неотмирный характер византийского христианства во многом ответственен за ряд важнейших характеристик самого государства. Личная власть императора, к примеру, понималась как разновидность харизматического служения: монарх был избран Богом, а не людьми; отсюда отсутствие в Византии какой–либо юридически определенной процедуры передачи императорской власти и ее наследования. Было ощущение, что и строгий легитимизм, и демократические выборы ограничили бы Бога в свободе избрания Его помазанника.