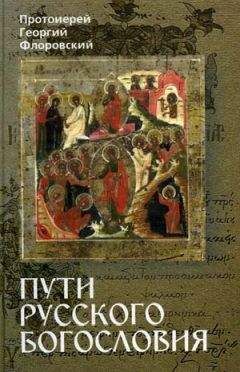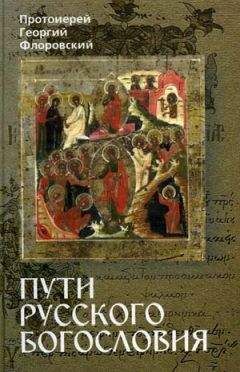«Мы зачарованы не только Голгофой, но и Олимпом, зовет и привлекает нас не только Бог страдающий, умерший на Кресте, но и Бог Пан, бог стихии земной, бог сладострастной жизни, и древняя богиня Афродита, богиня пластичной красоты и земной любви… И мы благоговейно склоняемся не только перед Крестом, но и перед божественно прекрасным телом Венеры» (О новом религиозном сознании, 1907).
Нельзя было сильнее выразить весь этот прелестный и соблазнительный замысел сплетения двух бездн…
Христианство есть «неполная истина», ибо бесплотная, аскетическая. «Преступления Церкви против земли, против земной правды, против культуры и свободы слишком ужасны, слишком невыносимы…»
Для самого Бердяева эти настроения были только коротким этапом. Но для эпохи они характерны. Это был взрыв темного и очень страстного натурализма. Русская душа в своем возвращении в Церковь была остановлена и зачарована этими грезами грешного воображения…
Еще резче и острее этот религиозно-натуралистический соблазн сказался в творчестве и мировоззрении В. В. Розанова [136] (1856–1919). Это был писатель с большим религиозным темпераментом, но человек религиозно слепой. Не слепой к религии, но слепой в религии. Человек религиозной страсти, не мысли, даже не веры. И в нем больше поражает его жуткое нечувствие, чем его прозрения; сам факт, что о н смог не увидеть самого очевидного…
Розанов каким-то жутким образом так и не увидел христианства, так и не услышал благовестия. Он слышал только то, что хотел, что соглашался слушать. И все сейчас же толковал по-своему. Сам Розанов отмечал у себя с детства «поглощенность воображением». И все для него только повод. В нем не было органической цельности. Розанов весь в хаосе, в минутах, в переживаниях, в проблесках. Bcе его книги точно дневник. Ему всего свойственнее было писать именно афоризмами, короткими фразами, отрывочками, обломками. Редко ему удаются большие картины. У него какое-то разложенное и разлагающее сознание, — разлагающее потому, что придирчивое, раздергивающее по черточкам, по мелочам. И сразу же навертываются какие-то раздражительные ассоциации, больше по смежности.
«Я никогда не владел своим вниманием… Но меня поражало что-нибудь, мысль или предмет».
За этим скрывается изъян логической воли, у Розанова нет ни чувства ответственности за свои мысли, ни желания за них отвечать, он одержим своими мыслями, ими не владеет. Это предел субъективизма, романтической прихотливости. Сюда присоединяется в последних его книгах навязчивая интимность, ненужная, а потому переходящая в манерность и развязность. Мировоззрение Розанова слагалось в опыте личных огорчений и обид. Очень разные идейные веяния отпечатлелись на нем, начиная гегелианством ранних лет (в его книге: О понимании, 1886). Затем Розанов прошел через чтение Достоевского (и Гоголя), и отчасти усвоил идеологию почвенничества. Но только отчасти. Сильнее было влияние Леонтьева, о котором Розанов еще при его жизни написал очень проницательную статью. В ней уже можно распознать типические пути мысли и темы позднейшего Розанова. Характерно, прежде всего, это «эстетическое понимание истории» (так называется первая из статей, 1892). Все мерила снимаются ради эстетического. Эти мотивы романтического натурализма всегда сильны у Розанова, а ведь в романтический натурализм уже включен интерес к этим стихийным культам древнего Востока, которые завлекали Розанова. Но к этому неожиданно присоединяется мотив крайнего сентиментализма, какого-то обывательного умиления. Он отвергает догматы ради умиления. «Христианство вышло все из народных вздохов, из народного умиления к Богу». Бог есть «центр мирового умиления». И этот острый психологизм, разлагающий самую реальность религиозного опыта, совсем не случаен для Розанова. «Так что же Он такое для меня? Моя вечная грусть и моя радость. Особенная, ни к чему не относящаяся…» Последние главы Евангелия кажутся ему нереальными, неубедительными, ибо они уводят по ту сторону. В такой психологической перспективе, конечно, христианское благовестие не звучит…
Совсем неверно называть религию Розанова религией Вифлеема. Ибо действительное таинство Вифлеема не есть пастораль или семейное умиление, как то выходило у Розанова, но огненная тайна Боговоплощения. Не столько радость человеческого рождения, но слава Божественного нисхождения. Слово плоть бысть! И вот это Розанов никогда не понимал. Он не понимал и Вифлеема, он не принимал и тайны Богочеловечества вообще, ни умом, ни сердцем. Отсюда именно понятна и его враждебность, его бунт против Креста. «Христианство есть культура похорон…» Поэтому он вовсе остается вне христианства и обличает его извне, как внешний…
Натурализм Розанова никак нельзя называть «христианским», да и может ли быть христианский натурализм. Розанов приемлет мир, как он дан, не потому, ведь, что он уже спасен, но потому, что он и не нуждается собственно в спасении, — ибо самое бытие добро зело, вот это «сырое вещество земли». И именно этот не преображенный мир так Розанову дорог, что ради него он отвергает Иисуса. Ибо во сладости Иисусовой прогорк мир…
В христианстве невозможна языческая радость, невозможна уже стихийная жизнь, — вот почему Розанов считает христианство умерщвляющим, и договаривается до «Темного Лика…»
Именно слепота поражает в Розанове всегда, — и в его реферате об «адогматизме христианства» в религиозно-философских собраниях (1902), и в его позднейшем докладе «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» (1907), и в его книге «Темный лик» (1911). После этой книги Розанов как будто стал о чем-то догадываться (в связи с неизбежностью смерти), еще не видеть. Однако, и в предсмертных выпусках своего «Апокалипсиса нашего времени» он оставался в прежней враждебности и называл христианство нигилизмом, потому что Христос «не взял» той царственной власти, что была предложена ему в пустыне искушений. Впрочем, умер Розанов, как член Церкви…
У Розанова было несомненное чувство быта, мелкого быта, мелочей быта. Бердяев метко называл его «гениальным обывателем». Но это было упадочное чувство быта, не простая бытовая жизнь, а именно любование бытом, снова от духовной безбытности. И ясновидение плоти и пола, которым Розанов был несомненно одарен, было у него болезненным и нездоровым. Ибо он не был способен увидеть цельного и целостного человека. Человек как-то сразу распадался для него на дух и плоть, и только плоть и обладала для него онтологической убедительностью. «Карамазовщину мы переименуем в святую землю, в священный корень бытия…»
Из Нового Завета Розанов отступает в Ветхий, но и Ветхий завет он понимает по-своему, избирательно, прихотливо. Он находит в Библии только сказания о родах и рождениях, только песнь страсти и любви. Он читает и эту ветхозаветную книгу не библейскими глазами, а глазами скорее восточного язычника, служителя какого-нибудь оргиастического культа. Розанов религиозно противится христианству, его антихристианство есть только иная религия, и он религиозно отступает в дохристианские культы, возвращается к почитанию стихий и стихии, к религии рождающих сил. И то, что в ветхозаветном Откровении было действительно основным и главным, для Розанова также не звучит, как и Евангелие. Он понимает жертвы кровавые, «кровь есть мистицизм и факт». Но «жертва Богу дух сокрушен» он уже не понимает, и плачется, что «факт» подменяют понятием! И напрасно он плачется, что «бытие догматов угасило возможность пророчества». Ибо пророчества сами не звучат для него…
Розанов есть психологическая загадка, очень соблазнительная и страшная. Человек, загипнотизированный плотью, потерявший себя в родовых переживаниях и пожеланиях… И оказывается, в этой загадке есть что-то типическое… Розанов производил впечатление, увлекал и завлекал. Но положительных мыслей у него не было…
Розанов принадлежал к старшему поколению, в 90-х годах писал в «Русском Вестнике», потом в Петербурге примкнул к кружку поздних славянофилов: Н. П. Аксакова, С. Ф. Шарапова, Аф. Васильева, Н. Н. Страхова. С «символистами» он сблизился очень поздно, уже в начале нового века. Но с ними сразу нашел общие темы. То была, прежде всего, тема о плоти, снова la rehabilitation de la chair, и спор против аскетизма…
Отдельные тропинки, которыми в 90-ых годах русские интеллигенты возвращались если не к вере, то к религиозным темам, разнообразно переплетались между собой, сплетались в какой-то дремучий лес. И в эту же эпоху начинается внутри самой культуры возврат к религиозным корням и истокам…
Уныние оканчивается. В первые годы нашего века уже преобладает мажор. «Заря восходила и ослепляла глаза» (А. Белый) [137]…
2. 90-е годы Соловьева. (От религиозной мысли к религиозной жизни).