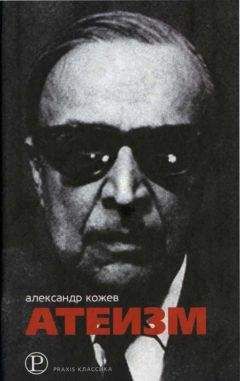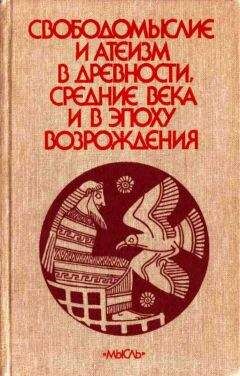Кожев не был утопистом и не занимался разукрашиванием какой‑то картины «светлого будущего»: в «Очерке» дан лишь самый общий набросок «права Гражданина», то есть исторического синтеза аристократического права Господина и буржуазного права Раба. В мои задачи не входит рассмотрение развиваемой Кожевом концепции права, равно как и взглядов на историю права (этому посвящена большая часть книги). Как историк философии, а не специалист по международному праву[20], я отмечу лишь то, что Кожев преодолевает в ней противоречие между философией права и философией истории, которое бросалось в глаза многим интерпретаторам Гегеля (сошлюсь хотя бы на упоминавшуюся выше книгу И. А. Ильина). В этой работе Кожев еще сохраняет гегелевский оптимизм: синтез Воина и Труженика в Гражданине, «универсальное и гомогенное государство» способствуют тому, что для каждого человека становится достижимым статус Мудреца, то есть совершенно разумного и нравственного существа, способного решать любые теоретические и практические проблемы. В 1950–е и 1960–е годы взгляд Кожева становится куда более пессимистичным. Итогом развития может стать избавившееся от нужды, но разленившееся человечество, населяющее Землю как колония паразитов. И капитализм, и социализм (и США, и СССР) стремятся к одному и тому же идеалу и ведут к одному и тому же «животному царству», а «конец человека», в таком случае, означает лишь то, что итогом шума и ярости истории будет вернувшееся к животному состоянию существо.
По воспоминаниям современников, Кожев настолько интеллектуально превосходил всех собеседников, что ему прощали ироничный взгляд на окружающих. Ирония редко переходила в сарказм, разве что при взгляде на словесные баталии университетских профессоров и публицистов. «Суэц и Венгрия интереснее Сорбонны», — писал он в 1956 году Л. Штраусу. Слава «мэтра» или «гуру» какой‑нибудь секты, толкующей то об «экзистенции», то о «деконструкции», его нисколько не привлекала, он предпочел пост министерского чиновника, чтобы способствовать осуществлению установленной им ранее цели истории. В ответ на переданное через Штрауса приглашение Гадамера открыть пленарное заседание конгресса гегелеведов Кожев писал: «Чем старше я становлюсь, тем меньше у меня интереса к тому, что называется философскими дебатами… Мне совершенно все равно, что думают и говорят о Гегеле господа философы»[21]. Возможно, он ошибался, и «универсальное и гомогенное государство» никогда не станет реальностью, но он был одной из ключевых фигур в образовании «Общего рынка» и той объединенной Европы, которая у нас на глазах, словно следуя предначертанному им плану, переходит от конфедерации к федерации. Независимо от верности прогноза Кожева относительно «конца истории», он был одним из первых мыслителей, указавших на то, что эпоха национальных государств завершается. Государство как форма человеческого сосуществования определялось прежде всего плюрализмом организованных этой формой полисов и царств, республик и империй. Человек останется «политическим животным» и в единственном оставшемся государстве, но оно не будет государством в собственном смысле слова. В каком‑то смысле отрицающий государство анархист является ультраконсерватором, указывающим на догосударственное существование человека на протяжении десятков тысячелетий, тогда как эпоха государств насчитывает самое большее 5–6 тысяч лет. Если всемирная история начинается с «борьбы за признание» и превращения одних в господ, а других в рабов, то она, действительно, может завершиться.
А. М. Руткевич
Печатается по копии с написанного по — русски манускрипта 1920 года, хранящегося в личном архиве А. Кожева в Париже и любезно предоставленного составителю вдовой А. Кожева Н. В. Ивановой. Публикуется впервые
В этот день я очень поздно работал: было уже около пяти, когда я решил наконец отдохнуть. Я работал в библиотеке. В комнате было совсем темно, и лампа, стоявшая на столе, освещала лишь небольшое пространство стены, на которой висел портрет Декарта, и самый стол, заваленный книгами и бумагой, на углу которого стояла небольшая, резко выделяющаяся на темном фоне статуэтка Будды. Все же остальное было погружено в тень, и можно было скорее предполагать, чем видеть длинные ряды полок с книгами. Я сильно устал, и мною понемногу овладело то странное, таинственное настроение, которое всегда царствует там, где собрано очень много книг. Я сидел, откинувшись на спинку кресла, и думал о написанном, о двух культурах, о Востоке и Западе, причем взор мой все время покоился на двух единственных освещенных предметах комнаты, — портрете и статуэтке. Не знаю, долго ли я так сидел; мне кажется, что я даже задремал; вдруг что‑то заставило меня встрепенуться. Я не сразу мог сообразить в чем дело, но вскоре увидел, что и с портретом и с Буддой происходило что‑то особенное, из ряда вон выходящее, что и заставило меня обратить на них внимание. Лицо Декарта на портрете как бы оживилось, приобрело выпуклые формы, и мне показалось, что губы его шевелились. То же изменение произошло со статуэткой. Бронза перестала блестеть и приняла цвет загорелого тела, похожего на старую слоновую кость, а в пустых глазах фигурки появилось человеческое выражение. Будда оживился и смотрел на Декарта с неуловимым выражением насмешки на лице. Я стал прислушиваться и скоро уловил их разговор. По- видимому, они беседовали уже довольно долго, так как в первых словах, которые я услышал, — в словах Декарта — сквозило уже раздражение.
— Позвольте, — говорил он, — так мы никогда не договоримся. Нам надо найти какую‑либо аксиому, наподобие геометрической, одинаково приемлемую для меня и для вас, исходя из которой мы могли бы построить философскую систему, конечные выводы которой должны быть обязательны для каждого, поскольку они логически выведены из этой аксиомы. Такой аксиомой, по — моему, может служить утверждение, по которому из того, что я думаю, следует то, что я существую, — Cogito, ergo sum. Я высказывал это утверждение еще очень давно, тогда, когда я был еще живым человеком, а не висел, в виде украшения, в чужих библиотеках, и до сих пор еще никому не приходило в голову его опровергнуть. Я надеюсь, что и вы, наконец, в этом со мной согласитесь.
— Нет, почему же? Хотя я и имел удовольствие услышать это положение лишь после того, как стал путешествовать по всему миру в виде бронзовых статуэток, но все же могу кое‑что на него возразить. Вы говорите: «Я думаю, следовательно, я существую». Следовательно, думать и существовать, по — вашему, одно и то же или по крайней мере всякая мысль является синонимом существования, т. к. я не могу думать, что вы полагаете, будто всякое существование влечет за собой и мышление. Не так ли?
— Совершенно верно. Возможность процесса мышления сама по себе доказывает наличность реального существования. По — моему, это достаточно ясно.
— Возможно, но я продолжаю. Процесс мышления обуславливает бытие, следовательно, мысль, как таковая, есть бытие, реальность. Всякое же существующее есть тоже реальность, тоже бытие. Таким образом, в вашем утверждении вы высказываете только то, что наличность известной реальности обуславливает бытие. С этим, конечно, нельзя огласиться, но большой вопрос, можно ли делать да этого те выводы, которые делаете вы. Вы пытаетесь доказать реальность своего Я, как мыслящей единицы, исходя из положения: есть реальность бытие. Следовательно, утверждение «Cogito ergo sum» не есть аксиома, а само нуждается в этой пред досылке.
— Допустим, что так. Но ведь вы не можете утверждать, что мышление есть небытие. Бытие, как противоположность небытию, есть реальность и всякое не бытие есть не реальность, т. е. следовательно, существует. Но если мы вообще можем говорить о мысли, то мы тем самым признаем и существование а следовательно, и бытие, и реальность.
— Это еще вопрос. Все ваше миропонимание покоится на предположении, по которому всякое бытие есть реальность, а всякое не бытие не реально не существует и, следовательно, не принимается в расчет. Но, с другой стороны, самое понятие бытия может ли быть понято иначе, чем как понятие, противоположное понятию небытия?
Конечно нет. Понятие существования воз. можно лишь как антитеза несуществованию, реальность — нереальности, бытие — небытию. Но я не понимаю, что вы хотите этим сказать.
Сейчас увидите. По — вашему, мышление обуславливает бытие, следовательно, и продукт мышления есть бытие, реальность, есть продукт мысли Если мы признаем однородность мыслительного Процесса, то мы можем сказать, что всякая мысль как таковая, адекватна понятию бытия. Но лишь осмысленное бытие становится реальностью, или иначе: всякое мышление потенциально заключаем в себе реализацию мыслимого. Следовательно, если мысль, мысля бытие, конкретизирует и реализует его, и тем самым сама выявляется как реально существующее, то та же мысль, мысля небытие, как нереальную антитезу бытия, сама и не существует. Ибо если мысль реальна, то реальны и продукты мышления; т. е. понятие небытия — продукт мысли — тоже реально как таковое. Но понятие бытия и небытия могут быть мыслимы лишь как понятия противоположные. Ergo — либо мысль мыслит понятие небытия как несуществующее и тем самым не существует с момента появления понятия несуществующего, либо мыслит все, как реальное, и тем самым творит себя, как существующее. Но в таком случае, из того, что бытие реализуется путем мышления, что реальное бытие может быть лишь продуктом реального мышления, что несуществующее есть продукт мысли, что реальная мысль не может мыслить несуществующее, что реальное бытие может быть мыслимо лишь как антитеза несуществующего небытия, следует то, что реальная мысль не может мыслить бытия. Не мыслимое же бытие не существует. Следовательно, если мысль реальна, то и продукт ее не может быть реальным. Поэтому самопонимание мысли, самая возможность мысли о мысли, в таком случае показывает необходимость понимания мысли как небытия.