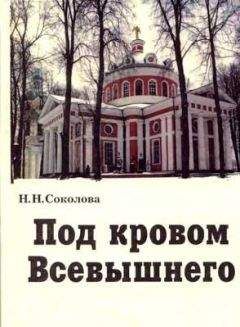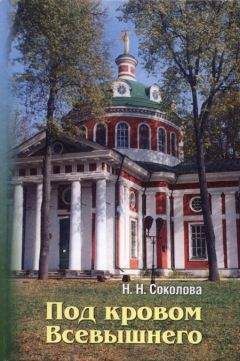Старец согласился, благословил военного, и тот устроил все, как обещал. Иеромонах проживал долгие годы в отдельной маленькой хибарке, не видя людей, не общаясь ни с кем, кроме Господа. Доставляющих ему пищу и дрова старец молча благодарил низким поклоном. Но несколько раз в год к старцу приезжал человек, посланный «родственником» — военным. Через этих людей лились Божий благодеяния на больных и умирающих в лагерях избранников Божиих.
Псково-Печерский монастырь
На обратном пути из Пюхтиц мы посещали не раз Псково-Печерский мужской монастырь. Он сохранился так же, как и Пюхтицы, потому что территория его в годы советской власти принадлежала Эстонии. В этой обители было что посмотреть и чему порадоваться! И расположение монастыря в глубоком овраге, и архитектура четырнадцатого века, мощные башни, стены, храмы — все это вызывало у нас восторг, все внушало уважение к старине. Наместник, архимандрит Алипий, встречал нас всегда с любовью, водил по саду, расположенному над крышей храма, сидел с нами в зеленой беседке и рассказывал историю монастыря: его возникновение, его судьбу во времена Ивана Грозного, жизнь подвижников-монахов, чудеса у их гробниц. После бесед с отцом Алипием уже по-другому воспринимаешь «Кровавую дорогу». Находясь в этом узком коридоре, круто спускающемся вниз, кажется, что слышишь конский топот, лязг оружия опричников, видишь монаха в черном, несущего перед собою свою отрубленную Грозным голову. Глаза сами ищут среди каменной мостовой следы крови святого Корнилия.
Большое впечатление произвела на всех экскурсия по подземным пещерам. В полутьме, со свечами в руках, ощущая сильный холод, мы медленно продвигались среди могил, слушая о подвигах похороненных в пещерах монахов. У самого входа нам приподняли покрывало, накинутое на гробницу святого. Между верхней и нижней крышкой колоды ясно были видны следы огня, опалившего древесину. Огонь вырывался из гроба каждый раз, когда немцы (во время войны) хотели надругаться над останками святых. Ребята скоблили пальцами стены пещер, набивали карманы песком, чтобы привезти его домой как реликвию. Был праздник, служил архиерей. Мы были за обедней в Михайловском храме, расположенном высоко над оврагом. Народу здесь было везде очень много. Серафим подолгу держал на руках Федюшку, чтобы ему было все кругом видно. Я слышала, что старушки удивлялись: «Этот малыш поет наизусть всю обедню!». Да, Федя с пяти лет уже знал весь ход утреннего богослужения, и нам это было привычно. Но вот начался праздничный трезвон. Я с Серафимом стояла высоко над оврагом, на балкончике. Среди крон лип и дубов нам видна была звонница, на которой монахи ловко перебирали канаты, привязанные к языкам колоколов. До чего же захватывающе, торжественно лились звуки! Я видела, что Сима — в восторге! Я спросила: «Сынок, тебе нравится тут? Может быть, когда-нибудь ты тоже будешь в монастыре?». — «Да», — тихо прошептал мальчик и кивнул головой. Я тогда поняла, куда уже тянулось его сердце. Но в те годы монастырь служил музеем, как нам сказал отец Алипий, да и мы это сами понимали. «Мой самовар — музейная редкость, обстановка — тоже, картина — тоже… Да и сами мы тут — музейная редкость. Потому нас только и терпят», — говорил наместник. Тепло прощаясь с нами, он одарил каждого из детей. А меня отец Алипий, как бы в шутку, спросил: «Ну, одного-то из трех нам оставите?». — «Пока нет: малы еще», — ответили мы.
Часть IV. Снова в столице
Последние годы в Гребнево
Шли годы, и наступала пора моего возвращения в Москву. Я это предвидела, к этому уже стремилась. Я с папочкой стала молиться, прося Господа помочь нам перебраться в Москву. Но вернуться нам всем в квартиру моих родителей уже было невозможно. Дети выросли, на одной постели двоих уже не положишь, да и занятия музыкой требовали отдельных комнат. Серафиму было четырнадцать лет, когда он заканчивал школу в Гребневе и собирался вместе с Колей поступать в музыкальное училище. «Без Симы мне будет еще тяжелее», — часто думала я. Дня три в неделю он уезжал после школы в Москву, откуда возвращался часам к десяти вечера. В свободные от музыки дни Сима приносил мне в дом дрова и каменный уголь. А в морозы ежедневно принести (а то и наколоть) четыре-пять ведер угля для меня было очень трудно. Батюшка мой уезжал рано, когда было еще темно, а приезжал тоже в темноте. Ящик с углем был далеко, не освещен, так что отец Владимир редко бывал мне помощником. Любочке было лишь одиннадцать лет, Феде — семь, силенок у них было еще мало, ведро угля было им не под силу. Коля и Катя жили в Москве, приезжали не каждое воскресенье: то гриппуют, то концерты. А мое здоровье сильно пошатнулось.
Женские болезни мучили меня постоянно, временами вызывая сильную боль. Но я думала, что так и должно быть, к врачам не ходила. Прописана я была в Москве, а ездить туда лечиться возможности не было, ведь с сентября по июнь я топила печь — в общем, была на должности истопника. Отапливали мы не только свой дом, но и Никологорских родных, хотя свекровь моя давно умерла.
Родственники наши носят иную с нами фамилию, потому что в начале 20-х годов детей священнослужителей не принимали учиться в советские школы. Тогда Соколовы были вынуждены распределить своих старших детей (Виктора, Бориса, Антонину и Василия) по родственным семьям, проживавшим в иных местах, где власти не знали о происхождении ребенка. Так, брат отца Владимира Василий был усыновлен родной теткой Марией Семеновной Никологорской, проживавшей во Фрянове. Поэтому за Василием и осталась родовая фамилия его матери — Никологорский.
Чтобы поддерживать хорошие отношения, Володя мой решился не снимать у родственников батареи, а продолжать отапливать переднюю половину их дома. Мне бывало обидно: «Хоть бы ребята их мне когда-нибудь угля принесли», — думала я. Здоровые пареньки, по четырнадцать и пятнадцать лет, катались на лыжах, а я надрывалась, таская уголь. Пробовала я просить их, мальчики не отказывались, но потом сказали: «Мама не велит, говорит, что мы пачкаемся». Да, работа эта была нелегкая — черная пыль оседала и на лице, и на руках. Мои руки все те годы не отмывались, пальцы трескались и болели. Но надо ж было и крест какой-нибудь нести! Так, с Божьей помощью, и тянула я двадцать лет своей жизни на селе, но в сорок два года почувствовала, что изнемогаю. Я ходила бледная, ложилась два раза за день отдыхать, бывали головокружения, падала в обморок.
Летом мамочка моя замечала мое болезненное состояние, посылала меня лечиться. Но на кого же мне дом оставить? Каждый день человек десять надо четыре раза за стол посадить и накормить. Продукты в те годы привозились только из Москвы, во Фрязине ничего, кроме хлеба, не было. Наш шофер Тимофеич снабжал нас всем, на машине все привозил, так что мы ни в чем не нуждались. Но, однако, сил у меня не хватало, казалось мне, что конец мой близок. Очень жаль мне было Любочку и Федю: «Ведь вся тяжесть хозяйства упадет на мою худенькую дочурку», — думала я. То и дело ей будут кричать, чтобы сготовила ужин, чтобы пришила кому-то пуговицу и т.п. А у нее и уроки, и скрипка, на занятия надо во Фрязино ездить. Бедная девочка моя! Не дай Бог остаться сиротою — ведь ее замучают. А Феденька был еще привязан ко мне, как дитя. Бывало, отец начнет что-то выговаривать мне за грязь и беспорядок, а Федя тут же заступится: «Нельзя на мамочку жаловаться, мамочка все хорошо делает!». И малыш обнимает меня, целует, ласкает. Отец махнет рукой, рассмеется. Ангел Федюши охранял меня.
Был такой случай. Возвращалась я из Москвы, шла по перрону вокзала. Вагоны были полны, народ набивался уже в тамбуры, я шла дальше, надеясь найти более свободный тамбур. Вдруг объявили, что поезд отходит, двери закрываются. Те люди, что спешно шли со мною рядом, стали прыгать на ходу в ближайшие вагоны, двери которых держали те, кто уже находился в тамбурах. «Прыгайте!» — кричал кто-то мне и держал дверь, так как я бежала и не решалась вскочить в вагон, сумка в руке была тяжелая. Тут, на какой-то момент, перед моим мысленным взором мелькнула картина… Я махнула рукой и остановилась.
Поезд умчался, а мне было стыдно, совестно, будто я грех совершила. Эта картина и сейчас стоит перед моими глазами: на маленьком трехколесном велосипеде сидит мой кудрявый черноволосый Феденька и смотрит вдаль, ожидая свою маму. «И ты рисковала своей жизнью, не боясь оставить это дитя сиротой!» — твердил мне голос совести.
— О, Господи! Благодарю тебя за вразумление, больше такого не сделаю, — сказала я.
Когда я возвращалась домой, то действительно заставала на улице у гаража своего младшего сыночка, встречающего меня. Отец его говорил:
— Ждет тебя не дождется каждый раз! Сидит грустный и все смотрит, смотрит на дорогу — не идет ли его мамочка. А Серафим говорил:
— Только ты, мамочка, не уезжай в те дни, когда у меня контрольная работа. Если тебя нет дома, я всегда на двойку пишу.