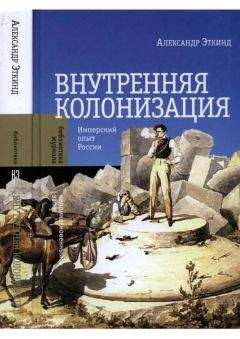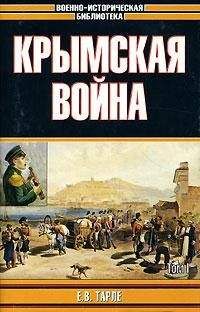Тут мальчик–с-пальчик свою фразу, весь синтаксис которой сводится к интонации (да еще, быть может, к порядку слов), мог бы дополнить движеньями, жестами, превратив таким образом свое высказывание в целую маленькую мимо–драму. Он ее, быть может, и разыграл. Без нее или без зачатков ее, из двух слов состоящий рассказ был во всяком случае понятен лишь тем, кто вместе с мальчиком слышал за окном звучавшее пение. Но и сами по себе эти слова к поэтической речи ближе, чем к обычной, обходящейся без поэзии. Ближе хотя бы уже отсутствием грамматического аппарата, который в поэзии, если и присутствует, то играет в ней либо меньшую, либо другую роль, чем в прозе (особенно в наотрез непоэтической прозе). А затем ведь из этих слов только первое позаимствовано (в усеченном виде) из языка взрослых, а второе, «ля–ля–ля» создано, и притом в соответствии — можно сказать по сходству— со своим смыслом создано; это в точности то самое, что для греков означал термин их риторики «имяделание», ономатопея. Возможно, разумеется, что мальчик, пение услыхав на улице, это детское словцо произнес не в первый раз, и что перенял он его от взрослых. Существа дела это не меняет. Это все‑таки не слово, которое вы найдете в немецком словаре; оно языку как речевой способности принадлежит скорее, чем отдельным языкам; и это все‑таки подражающее своему смыслу олово. Конечно, если на ленту записать ту солдатскую песню, не получится «ля–ля- ля»; но ведь ясно и без того, что ни поэзия, ни язык не образовались у людей путем записи чего‑либо на ленту.
Основной принцип образования языка — это поняли в свое время Вико, Гердер, Руссо— тот же, что основной принцип поэтической речи. Назову его ономатопейным. Не просто словотворческим (этим не было бы сказано ровно ничего), но в согласии с греческим пониманием делания имен, таким, где творчество состоит в создании сходства между именем и тем, что названо этим именем. Сходство это всякой буквальности чуждо и отнюдь не может быть сведено к простому звукоподражанию. Ведь и ля–ля–ля никаким определенным звукам не подражает, — разве что музыкальным, в отличие от немузыкальных, да еще светло и звонко музыкальным, скорей чем мрачным, низким и глухим. Все бесчисленные недоразумения в этой области, всё столь распространенное нынче недоверие не только к теориям происхождения языка (гипотетическим, разумеется, и ни на какие детали не распространимым), но и вообще к теориям языка или искусства, связанным с этим принципом, всецело объясняется чрезмерной узостью обычного понимания ономатонеи и обычных представлений о сходстве, а в применении к поэзии еще и полным забвением той истины, что ею высказывается нечто такое, чего нельзя высказать вне поэзии. В языке детей есть зачатки языка поэтов, но именно потому и улавливается тут в зачатках, намеках вся его сложная — и зыбкая — «ономатопейность».
Собственных своих детских слов не помню. О двух рассказали мне родители. Лет до пяти или шести я вместо альбома говорил «аблом», а яблоко называл «лябиком». В хорошо знакомой нам семье все три девочки говорили «кусарики» вместо «сухарики»; а крошечный мальчик, которого в юности моей знал я и любил, трогательно повторял «усь, усь», когда уходил кто- нибудь, только что возле него бывший. Творчества в этих творениях было немного и везде в них сквозит готовый его материал — как впрочем и всюду в человеческих творениях, — но если «аблом» всего лишь изделье лентяя, которому легче было произносить сочетание звуков более свойственное русскому языку, то «кусарики» — очень милое и меткое переосмысление уже осмысленных — но скучней — сухариков. В основе здесь тот же речевой акт, какой порождает так называемые «народные этимологии» («мелкоскоп» у Лескова, но едва ли выдуманный Лесковым, или «спинджак» вместо заморского «пиджака», ничем не дававшего понять, что его надевают на спину). Акт этот создает сходство (хоть и не звуковое) между словом и его значением. Сходства ищут и метафоры между нужным говорящему смыслом, и тем, говорящему ненужным, которого он, дай мы ему волю, отнюдь не назвал бы прямым. Все это, в сущности, смысловые ономатопеи, как и большинство «иносказаний» (опять, с точки зрения говорящего, нелепое выражение: он ведь не «иное» хочет сказать, а как раз «то самое»). Но об этом будет речь в дальнейшем. Признаюсь пока, что не ниже «кусариков» я ставлю «лябик», мое созданье — тех лет, когда я был поэтом; ономатопею любви моей к яблокам; не жевательную: ласкательную. Похожую на что? Не на яблоко, так на яблочко; и на эту самую любовь. Горжусь не ею, но поэмой о ней в одном единственном слове. Только все же отступаю, в тень ухожу, схожу на нет перед младенцем. Ему и односложного полусловца было достаточно, чтобы элегию сложить обо всех разлуках, прощаниях, утратах, которую я топотом теперь, через столько лет, повторяю, о нем думая, ручку его мысленно целуя — «усь, усь» — Боже мой — и о стольких других — усь, усь…
«Как часто милым лепетаньем…» Это Алеко в «Цыганах» не о младенце говорит. Но ведь из любовного лепета Земфиры точно так же могла возникать поэзия. И порождают ее то и дело не только речи ребенка, ласкающего мать, но и матери, ласкающей ребенка. Сколько тут вспыхивает ономатопей, заумно выразительных звукосочетаний, и конечно образов, сравнений, всяческих «фигур», вполне пригодных для регистрации и классификации их Риторикой. Да и вообще, обрывки поэтической речи разве не всплывают сами собой в разговорной, в шутливой, взволнованной, издевательской, ругательной; в казарменном или воровском жаргоне; или попросту, как заметил еще Монтэнь, «в болтовне горничной», в кухонной какой‑нибудь, чаще еще чем в салонной, болтовне? Как неправ был Балли, лучший (если не считать Мейе) ученик Соссюра, мастер стилистики, т. е. анализа выразительных средств речи, в своем решительном отказе приравнивать эти средства к тем, что «пускаются в ход» писателями и поэтами! Виной тому были неверные представления его (и не его одного) о нарочитости такого нажиманья на кнопки или рычаги; да и эстетика (т. е. взгляд на искусство как на прикладную эстетику) его попутала. На самом деле, нарочитым или полностью сознательным позволительно считать, у автора художественных произведений, лишь решение применить или не применять такой‑то «прием», а не самый импульс то‑то сказать, так‑то в своей работе поступить, такое‑то движение мысли и чувства в звуки, в слова или в зримые образы облечь, которое, воплотившись, даст тем самым возможность критику (или критикующему себя автору) констатировать известного рода эффект и назвать предполагаемую его пружину, прием, каким‑нибудь заранее готовым, а порой и вновь придуманным именем. Что же до эстетики или ее критериев, то их и сам Балл и из обыденной речи (верней, из импульсов, руководящих ею) не исключал; он заблуждался лишь в том, что поэтическую (в прозе или стихах) к таким эстетическим заботам склонен был сводить. А ведь чувствовал ее! Вырвался- таки у него в «Трактате о французской стилистике» (1908, I. С. 188) возглас: «Разве поэзия не замаскированное признанье, что счастие наше не в истине и не в познании» [26]. То же ведь думают и менее «позитивные» умы. Они только полагают, что не все истины познаются мышленьем не примиримым с поэзией и заранее исключающим ее.
Если б не было недоказуемых истин, поэзия была бы ненужна. Если бы, кроме доказуемого, все было бы бессмысленным, незачем было бы ей, как и другим искусствам, существовать. Предаваться любому из них было бы пустым времяпрепровожденьем; заниматься любым из них — пустым занятием. Ради удовлетворения того, что зовут эстетическим чувством? Но мало ли чем возможно его удовлетворить. Если же о «ранге» художественных произведений рассуждать, то и это предполагает признание недоказуемых истин, и их иерархии, сугубо недоказуемой. Но мы пока что не о поэзии говорим и не о произведениях ее, а лишь о поэтической речи, которая, однако, предполагает соответственное ей мышление: без него — как и без нее — поэзии не может быть. Не возникнет она из «велений» эстетики: намерение написать превосходное стихотворение не гарантирует появления на свет даже и посредственных стихов. Не возникнет из критики, хоть и нуждается — в самокритике, по крайней мере — с самого начала. Для возникновения ее необходимо брожение мысли, словесной и дословесной, скорей похожей на то, откуда родились младенческие «усь» и «ля–ля–ля», чем на работу, обозначаемую по–французски глаголом редижё (письменно что‑либо излагать, в сыром виде существовавшее и до этого).
Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей…
Нет, — это не о том. Не в небрежности тут дело; в неправильности и того менее; а уж выговор, напротив, должен быть вполне точен. Но «лепет» все- таки подходящее слово, и справедливо оно тут с «трепетом» рифмуется. Во внутреннем этом собственном своем лепете поэт может найти отдельную интонацию, отдельное словосочетание или слово, откуда — или из нескольких таких ростков — вырастет все дальнейшее. Блок записал в декабре 1906 года: «Всякое стихотворение— покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из‑за них существует стихотворение». Из‑за них, хотя звезда, излив весь тот свет, что поэту путь открыл, может и исчезнуть; но порой и ради них; если коротко оно, ради одного, главного в нем слова. Как в четверостишии Клаудиуса (нижненемецкого, европейской славой обойденного набожного современника Гёте), где говорится о смерти, о темной горнице смерти. Двинется ее обитатель (смерть по–немецки мужеского рода), и уныло она зазвенит, а потом подымет он свой тяжелый молот (это и есть главное, в рифме поставленное слово всего стихотворения) — и час пробьет: